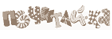Новые сказки Шехерезады
 …Уже звёзды гасли над дворцовыми покоями и померкли масляные светильники, когда падишах устало махнул рукой и Шехерезада прекратила дозволенные речи. Её волшебная история и в этот раз не оставила повелителя равнодушным: по лицу его бродила мечтательная улыбка.
…Уже звёзды гасли над дворцовыми покоями и померкли масляные светильники, когда падишах устало махнул рукой и Шехерезада прекратила дозволенные речи. Её волшебная история и в этот раз не оставила повелителя равнодушным: по лицу его бродила мечтательная улыбка. – Как интересно ты рассказываешь, – молвил Великий, позёвывая. – Ты очень умна, и мне, право, жаль будет казнить тебя… после, когда ты закончишь свои сказки. …Но не могу же я нарушить собственное слово!
– Ни в коем случае, о Повелитель! – отвечала Шехерезада, склонив голову. – Слово Падишаха всегда нерушимо.
– Да?.. – поразился он. – И тебе не жаль будет расстаться с жизнью?
– На всё воля Аллаха, о Повелитель! И воля моего Повелителя…
– Как ты разумна, – ещё раз удивился Падишах. – Не то, что эти идиоты… помесь ослов и шакалов… Только и знают: «Смилуйтесь!» да «Помилуйте!» Куриные головы, не понимают, что падишах не может менять своих решений. Иначе какой же он падишах!..
В эту ночь, а прошло уже почти две луны с тех пор, как старшую дочь визиря Шехерезаду призвали на ложе самого Падишаха, Великий не спешил удовлетворить с ней мужскую нужду и ничего от неё не требовал. Его мысли приняли иное направление, ибо даже самые сладостные яства временами приедаются… Её младшая сестра Дуньязада, сморенная сном, прикорнула тут же, возле ложа. Еженощное присутствие сестры вытребовала у падишаха сама Шехерезада, боясь расстаться с жизнью, не простившись с нею, ибо падишах в одно прекрасное утро мог просто отрубить ей голову! Нужно сказать, что это был жестокий, очень жестокий правитель по имени Шахрияр, и с другими девушками он так и поступал.
…Однажды, много лет назад, вернувшись с царской охоты раньше времени, застал он свою любимую жену Зейнаб во дворцовом саду у фонтана: сидя без одежды на самом большом своём чёрном рабе по имени Мосруф, на его чёрном, как уголь, стержне она исполняла танец скачущей всадницы. «О, Мосруф!» – кричала она в упоении, а огромные чёрные ладони сжимали её белые ягодицы!
Померк дневной свет в глазах Шахрияра, ожесточилось его сердце: подкравшись сзади, махнул он золочёной саблей – подарком дамасского эмира, и снёс голову своей любимой Зейнаб. Тело её рухнуло замертво, заливая кровью своего любовника, голова же отлетела в фонтан. Раб взвыл от страха и, размазывая кровь по садовой дорожке, пополз к ногам повелителя, моля о пощаде, но был разрублен поперёк надвое. Верхняя его часть, в отличие от нижней, ещё немного подёргалась на каменных плитках, прежде чем затихнуть навеки. Голову любимой жены потом выловили, омытую в фонтане, и Великий плакал над нею всю ночь…
Но с тех пор жестокость его к женщинам не имела границ: каждую ночь к нему приводили новую девушку, с которой он удовлетворял мужскую нужду, а на утро рубил ей голову, считая, что именно этого все женщины и заслуживают. Народ, в конце концов, возопил и стал разбегаться; девушек в стране не осталось… кроме дочери падишахского визиря, умнейшей Шехерезады. Узнав о том, что делает правитель со своими наложницами, она поразмыслила и попросила отца отдать её падишаху: «Во имя Аллаха, сделай так! Увидишь, я останусь живой и спасу остальных мусульманских дочерей!» И тот, убитый горем и простившись с дочерью навеки, выполнил её просьбу.
И вот младшая сестра её, Дуньязада, всякую ночь была подле неё, и блестя глазами и затаив дыхание, слушала её волшебные истории, не забывая их похваливать: «Ах, какая интересная, чудная, прекрасная история, сестра!» На что Шехерезада всегда отвечала: «Это ничто по сравнению с той историей, которая у меня припасена на завтра!» С не меньшим интересом наблюдала младшая и за тем, как Великий, выслушав очередное повествование Шехерезады (а иногда и в первую очередь), удовлетворял с нею свою мужскую потребность, заставляя её принимать то одну, то другую позы. Тогда она подбиралась к ним как можно ближе, и так же тяжело дыша и непроизвольно повторяя телодвижения сестры, старалась не упустить никаких подробностей действа.
– Однако какие чудесные были эти двенадцать волшебных дев в твоей сказке, которых приносил джинн! Удивляюсь, как они могли доставлять такое блаженство простой игрой на флейте!.. Как жаль, что у меня – Великого Падишах! нет такой волшебной лампы, чтобы вызывать джиннов. Воистину, я несчастнейший из падишахов!
– Да будет тебе известно, о Повелитель, что я тоже владею искусством игры на флейте, – отвечала Шехерезада, – И могла бы, с твоего позволения, доставить тебе не меньшее блаженство…
– Что?? Блаженство двенадцати волшебных дев? Повелеваю тебе… Эй, принести флейту!
– Не нужно, о повелитель, – отвечала Шехерезада, – Ничего этого не нужно… Этому искусству меня обучали ещё в Каире, в гареме самого Аль-Рашида, когда мой отец не был ещё твоим визирем, а служил простым начальником стражи, – и под страхом смерти запретили кому-нибудь об этом рассказывать… Но для тебя я готова нарушить запрет. Но прежде, чем я возьму в руки флейту, скажи, нравлюсь ли я тебе?
– Ты недурна, Шехерезада…
– Хочешь ли ты меня, мой повелитель?
– Этого я сказать не могу… Но если бы хотел, то уже, во славу Аллаха, погружался бы в нежное нутро твоей тёмной раковины.
– Ты прав, о повелитель. Но дело в том, что пока ты не захочешь меня, до тех пор у меня не будет в руках этой удивительной флейты, игра на которой доставляет райское блаженство. Вели мне показать тебе кое-что…
– Велю… Что же это?
– Ну, во-первых, мой живот... а на нём пупок, какого, ручаюсь, ты никогда не видел…
– Я? Не видел женских пупков??
– Таких – нет, о повелитель! До сих пор страсть не позволяла тебе хорошенько рассмотреть его. Он столь глубок, что вмещает целую унцию розового масла.
И Шехерезада, встав во весь рост, подняла край своей тонкой рубашки и сделала несколько покачиваний бёдрами. Живот её с тёмным пупком блеснул в свете светильников умащенной кожей. Полулёжа на подушках, падишах с интересом смотрел на него.
– Целую унцию? Не может быть… Пусть евнух принесёт масло. Икраим!
– Погоди, о повелитель! Пупок подождёт… Прикажи мне обнажить мой луноликий зад, и клянусь Аллахом, ты захочешь его! И я сыграю тебе на флейте блаженства! – воскликнула Шехерезада, и Падишах – она заметила это! – поддался её страстному призыву.
– Повелеваю! – произнёс он требовательно. Шехерезада послала ему свой самый страстный взор, и исполняя танец затухающего огня, опустилась на ложе. Приняв позу ослицы, она развязала поясок своих тонких абрикосовых шаровар, которые соскользнули к коленям. Над ложем взошла полная луна, столь выпуклая и округлая, что даже Великому Падишаху, познавшему тысячи и тысячи женщин, было на что посмотреть. Темнеющий овал между бёдрами притягивал его взор, и Шехерезада это заметила.
– Всё ли ты видишь, о повелитель? Не приказать ли ещё светильников?
– Эй, кто там! Больше свету! – и две служанки бесшумно метнулись и принесли ещё четыре светильника. Пробудившаяся Дуньязада смотрела на открывшуюся ей картину во все глаза.
Ещё недавно задумчивый, взгляд Падишаха заблистал и пола его халата слегка приподнялась. Он сделал знак Шехерезаде приблизиться. Она на коленях подползла к нему, опустилась ниц, и Великий возложил на округлость её луны свою ладонь, сверкнувшую огнём рубинов.
– О Повелитель, позволь мне взять теперь в руки флейту. Моя игра, поверь, доставит тебе блаженство не меньшее, чем двенадцать дев ифрита!
– Где же твоя флейта?.. Возьми её, повелеваю…
Шехерезада откинула полу его халата из тонкого китайского шёлка и извлекла белый ствол.
– Вот прекрасная, прочная флейта, из которой можно извлекать звуки блаженства! – воскликнула она. Взяв губами конец ствола, она пальцами прошлась по всей его длине сверху вниз и обратно. Подобно заклинателю змей, она бесшумно играла и играла, раскачивая головой и перебирая невидимые клапаны, пока не зазвучал голос Падишаха:
– О-о-о!! Да это и вправду блаженство двенадцати дев ифрита!..
– И даже более, о Повелитель!.. – откликнулась Шехерезада. – Я ведь сыграла тебе ещё не всё, что умею…
– Не отвлекайся на разговоры! Покажи своё умение! – воскликнул Великий, и молчаливая игра на флейте продолжилась.
– …И во всём Багдаде не нашлось ни одной женщины, которая владела бы этим искусством… Им владеют только в Каире! О, Аллах!.. – говорил падишах, и по лицу его бродила улыбка блаженства.
Дуньязада, наблюдая за игрой, незаметно приблизилась к сестре вплотную.
– Сестра, разреши и мне поиграть… У меня получится, вот увидишь! – зашептала она ей на ухо, но Шехерезада, не выпуская флейты изо рта, сверкнула на неё чёрным миндальным глазом и сделала рукой негодующий жест, означавший, что это совсем не детское занятие. Затем, округлив глаза, она стала заглатывать флейту целиком, как факир-шпагоглотатель. Падишах, постанывая, корчился на ложе.
Наконец Шехерезада вынула флейту изо рта, чтобы отдышаться, и та вдруг брызнула ей в лицо своим соком, несказанно удивив этим малышку Дуньязаду. «Играй!!» – вскричал падишах, и Шехерезада вновь прильнула к флейте губами и не выпускала её долго… пока тело падишаха совсем не ослабело и не упокоилось на подушках. …Потом он обнял её, и они заснули вместе до утра.
И на утро, удивляясь самому себе, падишах вновь не отрубил ей голову.
Сказка о бедном Алладине
Прошёл день, и настала следующая ночь, и Шехерезаду вновь призвали к падишаху. Устроившись на ложе подле него, она, по его знаку, начала дозволенные речи. Дуньязада, как обычно, сидела на полу рядом.
– Было это, или не было, – начала Шехерезада, – а кроме Аллаха ничего не было! …Но сказывают, в старые-старые времена жил на свете бедный юноша по имени Алладин – ну такой бедный, такой бедный, что беднее его просто и быть не могло. Жили они вдвоём со своей матерью, и добывал он им пропитание тем, что пас чужой скот. Мать же его собирала ослиные и верблюжьи кизяки для печки, да варила похлёбку, когда было из чего. Мальчишкой был Алладин всегда такой грязный и рваный, что все дети его сторонились и кричали, когда он появлялся: «Вон Алладин идёт – спасайся, кто может!» – и, зажав носы, разбегались. Алладин плакал и жаловался матери, но чем она могла его утешить? У ней и самой вид был не лучше…
Когда Алладин подрос и стал юношей, то мать сумела разглядеть необычайную стройность его тела, красоту лица, подобного луне в 14-й день месяца, и персиковый цвет кожи, скрытые под всегдашним слоем пыли и грязи. Она одна знала тайну его рождения, и верила, что ему уготована необычная судьба, и она, мать, тоже когда-нибудь возвысится вместе с ним.
А тайна эта была такова. Однажды, будучи ещё юной девушкой, вышла она вечером из дома своего отца прогуляться, и не успела она глянуть по сторонам, как налетел, как ветер, какой-то всадник на белом коне, закутанный в ярко-синий бурнус, подхватил её в седло и умчал из города. Далеко в пустыню увёз он её, и там, в его богато убранном шатре с чудесными яствами и напитками, она, хоть и была очень напугана, увидела, что он молод и красив, и подумала, что человек этот, наверное, царских кровей. А он, угостив и напоив её, велел ей развязать пояс, лечь на спину и обвить его ногами, и она не смела ослушаться. И он распечатал её запертую раковину и, в поисках жемчужины, всю ночь без устали погружался в неё, забивал и забивал заряды, и его орудие всё стреляло и стреляло. А на утро, когда она проснулась, никого в шатре уже не было, кроме чёрной рабыни, которая весь день молча служила ей, кормила и поила, омывала и умащивала её тело мускусом.
И на следующую ночь всё повторилось: как стемнело, прискакал красавец-всадник, и вместе они угощались сладостями и фруктами и пили заморские вина из серебряных сосудов, а молчаливая рабыня им служила. Как только они насытились, принц, как она его про себя называла, не теряя времени, велел ей развязать пояс, уложить зад на подушки, а пятки направить в небо, и рабыня ей помогала. И когда устроилась она удобно и подняла ноги, рабыня стянула с них шаровары, а он принялся ласкать её бёдра и тёмную раковину между ними, и ей это нравилось, а раковина сама собой приоткрылась. Как сказал когда-то поэт:
Роза млела, источая сладостный нектар…
И принц, вдохнув аромат её нектара, извлёк свой белый жезл и осторожно погрузил в раковину, и стал погружать и извлекать его, снова и снова, и ей всё больше это нравилось, а рабыня в это время играла им на зурне. А он всё забивал и забивал в пушку заряды, всё сильнее и сильнее, и когда забил их достаточно, орудие выстрелило, да так мощно, что крепость была разрушена. Потом он обнял её и они уснули вместе, но утром проснулась она одна, и весь день провела с рабыней. Она знала, что в доме её отца-медника по ней уже выплакали все глаза, но рабыня молчала, как рыба, и на все её вопросы прикладывала палец к губам и качала головой.
И на третью ночь было то же самое, только после ужина он приказал ей принять позу ослицы, и заряды свои забивал ей сзади, и она не видела его белого жезла, который за эти две ночи сделался ей так мил. Но и пребывать ослицей с ним ей было сладко, и только одно ей хотелось узнать, кто он и как его имя. И она поворачивала к нему лицо и хотела спросить, но принцу было не до того…
А потом он сел в позу лотоса и усадил её сверху, так, что тёмная раковина поглотила белый жезл целиком, и велел рабыне налить им тёмного густого вина, оживляющего силы, и они, слитые воедино, пили, влюблено глядя друг на друга. И в это время она снова хотела узнать, кто он, но он только покачал головой и сказал: «Потом, любовь моя!» А когда они допили до дна, она ощутили ток чудесного вина в своих жилах и почувствовала, что его жезл внутри налился новой силой. И принц велел ей пуститься вскачь, и она понеслась, не чувствуя усталости и не жалея ни коня, ни всадника, и ей это понравилось больше всего на свете. А потом створки её раковины, охватившие белый жезл, сжались в таком сладостном спазме, и его орудие дало такой могучий залп, что она почти лишилась чувств.
А утром она опять проснулась на ложе одна, и лишь в руке у неё был зажат кошелёк с десятью золотыми динарами, а на пальце сверкал перстень с чудесным изумрудом, зато сам шатёр был пуст и гол, и никакого убранства, ни столиков с яствами не было. Рабыня молча вывела её, посадила в маленькую тележку, запряжённую ослом, махнула рукой, и осёл резво побежал, как будто сам знал дорогу к городу.
Отец, когда она дома рассказала всё без утайки, проклял её и выгнал из дому, и слёзы её матери и сестёр не смягчили его сердца, ибо стала дочь его пропащая и никому более не нужная, и выдать её замуж после всего случившегося не было никакой возможности. Сама же она не стала плакать, поскольку не считала себя виноватой, и молча подчинилась воле жестокого отца. Кроме того, она верила, что её любимый не бросил её, насытившись ею, а обязательно её разыщет, и они снова будут вместе. Преисполнившись решимости ждать его, сколько ни придётся, она за четыре золотых купила себе бедную лачугу на окраине, один золотой потратила на всякую домашнюю утварь и посуду, а оставшиеся пять золотых спрятала понадёжней, потому что, хотя и прошло только три дня, она уже знала, что понесла, и что не пройдёт и года, как у неё родится ребёнок. Перстень же с изумрудом она решила не продавать никогда.
И стала она жить в своей лачуге, ничуть не жалея о случившемся. Осёл с тележкой тоже остались у неё и помогали ей зарабатывать на хлеб: она собирала колючки и хворост и возила их на продажу. Через девять лун родился у неё мальчик, которого она назвала Алладин, прекрасный, как сама луна на 14-й день месяца, и продолжали они жить уже вдвоём в большой бедности, ибо оставшиеся деньги мать Алладина не решалась тратить, считая, что они могут понадобиться для более важных дел, чем еда. Когда Алладин подрос и мог уже смотреть за скотом, ему пришлось пасти коз, ослов и мулов, и он делал это хорошо, зная, что помогает матери. Кроме того, он вообще любил животных больше, чем людей, потому что люди бывали злы и часто обижали Алладина, а животные никогда этого не делали.
Когда Алладин стал уже подростком, он часто видел, как у ослов их отросток иногда вытягивался, становился всё больше и больше, свисая до самой земли, а потом вдруг поднимался, твердел, и ослы при этом протяжно вопили. Если случалась поблизости кобылица, они бежали к ней, и кричали, просились, и тёрлись об неё, и пытались запрыгнуть… Те же обычно встречали их равнодушно и отходили в сторону.
Постепенно и собственный отросток стал донимать Алладина: он всё чаще выпрямлялся и приподнимал полу его халата, желая куда-то погрузиться, и это доставляло ему мучительное беспокойство. Однажды ночью он не спал и видел, как мать его – а она была ещё молода и красива телом – при тусклом свете очага совершает омовение, поливая себя из кувшина. И когда она низко наклонилась, он увидел, как округлился её зад и выпятилась овальная тёмная раковина. Тогда он понял, куда желает погрузиться его возбухший отросток, и страстно возжелал этого...
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru