Двадцать лет спустя
 Море в этом году накрылось медным тазом. Впрочем, оно так делало всегда. Мечты о море начинались осенью. И крепли по мере того, как погода за окном становилась все более мерзкой. Она листала рекламные буклеты и открывала и открывала без конца сайты Интернета. В такие минуты она напоминала изголодавшегося человека, которому только что принесли многостраничное ресторанное меню. Ей хотелось быть одновременно везде: в старинной гостинице, тонущей в зелени ялтинского парка. В только что отстроенном архитектурном чуде, что, кажется, плывет над морем. В закуточке двора, где сдается койка под навесом. Разбиться на молекулы, оказаться и там, и там, и сям… И чтобы осененная белой пеной волна накатила, перемешалась с ее душой…
Море в этом году накрылось медным тазом. Впрочем, оно так делало всегда. Мечты о море начинались осенью. И крепли по мере того, как погода за окном становилась все более мерзкой. Она листала рекламные буклеты и открывала и открывала без конца сайты Интернета. В такие минуты она напоминала изголодавшегося человека, которому только что принесли многостраничное ресторанное меню. Ей хотелось быть одновременно везде: в старинной гостинице, тонущей в зелени ялтинского парка. В только что отстроенном архитектурном чуде, что, кажется, плывет над морем. В закуточке двора, где сдается койка под навесом. Разбиться на молекулы, оказаться и там, и там, и сям… И чтобы осененная белой пеной волна накатила, перемешалась с ее душой…Бесконечно тянулась зима. Приходила весна, и свежий холодный воздух нес запах океана и дальних стран. А кошелек – неизменно – был пуст.
Она бы и сумела скопить деньги, кабы не детские болезни, прохудившиеся ботинки – все те мелкие, обусловленные жизнью траты, которые невозможно предугадать, и которые грабят не хуже бандита с большой дороги. Оставалось идти к морю по шпалам и… начинать мечтать о следующем лете.
А потом она узнала, что умерла ее первая любовь. Узнала, конечно, из газет.
Это был хоть и глубокий старик, но на весь мир до сих пор известный. Она полюбила его в пять лет – потому, что была рождена для любви. И увидев его в образе Героя, она тоже стала собой. Человеком, которому нет счастья в сегодняшнем дне, потому что есть Край, и Вершина, и Небо – и пока ты не там, ни покоя, ни удовлетворенности быть не может.
И она уже тогда понимала, что чувство ее обречено. Потому что не увидеть его никогда в жизни, и ничем ему не послужить. Со временем она перестала верить, что все выстроенное ею на песке так красиво, как она это себе видела. Но известие о его смерти вызвало в ней совершенно неожиданной отклик.
Она пошла и взяла билеты на поезд.
Успеть. Надо было успеть. Потому что мы всегда и всюду не успеваем. Разлюбил, уехал, умер. Погас солнечный денек, кончилась весна, истекла молодость, истончилась жизнь – от широкой бескрайней дороги до нити в несколько дней.
Вот она поедет, увидит, а потом всегда будет считать, что жила не напрасно.
Кого увидит? Ясное дело – не покойника.
Она сидела у подъезда одной из пятиэтажек, тех самых, «имя которым – легион». Порыв, который привел, уже почти совсем уступил место страху. Вот. Приперлась. И что она скажет? «Здрассьте, я вся ваша?»
А он скажет:
– Спасибо, конечно. Но на фига ты мне нужна?
И совершенно верно – что она может предложить ему?
Она почему-то посмотрела на свои руки. Руки, которые нравятся, которые хочется целовать – совершенно другие. Маленькие, нежные, на них ноготки, как драгоценные камушки. У нее – совершенно неухоженные руки, рано состарившиеся, показывающие, что работы она никогда не боялась. Да и сама – не Джина Лолобриджида. Ох, далеко не Джина.
А у него… Хоть очередь здесь и не стоит, но наверняка в памяти те дни, когда стояла. И были мешки писем, на которые он глядел с иронией – и не думал читать. И были особо наглые поклонницы, лезущие на балкон – вот тот угловой балкон, скорее всего, – его, используя любые подручные средства, вплоть до веревок из собственных колготок.
И какие поклонницы! Начиная от восторженных простушек, и кончая теми, кто сегодня заткнул бы за пояс «Мисс Вселенную». Сегодня – потому, что это было «тогда». Двадцать лет тому назад.
Ей тогда исполнилось четырнадцать. И тогда же она перестала верить своей Первой Любви.
Сердцем почувствовала – слишком много лоска. И вообще, это все – неправда.
А тут – было другое. Родное. И потому – длящееся, не отпускающее…
Можно было, конечно, задуматься о нюансах. О том, что ему уже за семьдесят. И толпа юных девиц, пикетирующая дом, выглядела бы, мягко говоря, странно.
Что преуспевающие люди живут не в таких вот пятиэтажках, с наскоро заделанными трещинами на стенах, с развешанным на балконе бельем – Гарлем, да и только.
Но она думала, что он-то уже достиг Вершины, на которой ни слава, ни деньги уже не представляют важности.
Что Бог, конечно, дал ему все, чтобы «сердце успокоилось» – на жизнь смотрелось просто и ясно. Когда гармония в душе – ее ощущаешь во всем. И ничего больше не надо. Никакого довеска, в виде навязанных кем-то чувств.
Если бы он видел мир так, как она, он бы понял, что есть, что дать. У нее было умение любить и готовность посвятить свою жизнь служению. А если этого не видеть, то она… женщина средних лет с тоскующими глазами. Престарелая фанатка.
– Машенька, что мне взять? – спросил он, стоя перед открытым шифоньером. На верхней полке, в пластмассовой белой шкатулке хранились деньги, и он готовился положить в кошелек ту сумму, на которую примерно потянет оглашенный супругой список.
Маша, уже перебравшаяся с постели на диван под плед, задумалась. Путь, который она осиливала за день, измерялся треугольником: постель у дальней стены, диван – поближе к телевизору, и ванная комната.
– А что вы хотите? – риторически спрашивал участковый врач. – Новый позвоночник вам никто не даст.
Готовил тоже он. Но он и на улицу выходил, и домашнюю работу делал – и аппетитом не был обделен. Ей же приходилось задумываться, чего хоть немного хочется из доступного по деньгам.
– Купи курицу, – наконец решила жена, – пусть будет куриная лапша. И если Тоня будет сидеть на углу – возьми у нее хоть баночку квашеной капусты.
Он кивнул, и аккуратно опустил в отделение для банкнот две сотенные бумажки.
Последние годы приучили его к медлительности. Вначале к роли домашнего хозяина он относился легко, не считая столь важным вовремя помыть чашки, или запомнить, куда сложены полотенца.
Но потом понял, что на восстановление порядка и поиски невесть куда запропастившегося уйдет не только все свободное время, но и все силы. И стал следить за собой, любую работу выполняя тщательно и неторопливо.
Он снял с вешалки в прихожей матерчатую синюю сумку, с которой ходил по магазинам, и вышел, продолжая в уме то, что жена не перечислила: хлеб, молоко, на исходе сахар.
В своем подъезде он знал всех.
На лавочке у подъезда сидела незнакомая женщина. Белокурые волосы уложены без изысков, светлый плащ… Лицо бесхитростное, открытое. Но она почему-то не скользнула глазами по нему – незнакомому, а смотрела на него со сложным выражением.
Он подумал, что у нее что-то случилось. Получила плохое известие. Или ее только что обокрали. Но нормальным людям – не попрошайкам – проще, когда другие не вмешиваются. Они стесняются чужого внимания. И он, отметив взгляд женщины, показавшийся ему тревожным и напряженным, пошел себе в магазин.
Он возвращался назад с тяжелой уже авоськой, думая, когда же, наконец, весна сгонит лед с тротуара. И что пора, наконец, признать возраст и брать с собой палку. Оступись он неудачно, Маша останется вовсе без подмоги.
Женщина все так же сидела у подъезда.
– Все же спрошу, – решился он. – Если…
Когда между ними оставалось шагов пять, она поднялась робко, напомнив ему вдруг собаку, потянувшуюся навстречу, но не уверенную – погладят или пнут. И опустилась на колени, даже не позаботившись отвести от колен светлый плащ, тоже неуверенно и неловко – точно боялась, что это уничижение выглядит слишком смело. Или смешно.
Господи, ну и как на такое вот реагировать?
– Вам плохо? – он поспешно схватил ее под локоть, чтобы помочь подняться.
Она замотала головой.
Племянница Маши прокомментировала бы ехидно – «весеннее обострение».
Возможно, эта дама – местная сумасшедшая, которая вот так странно реагирует на прохожих.
– Ку-да вас про-во-дить? – громко и как можно отчетливее спросил он ее.
Она внешнее совершенно не была похожа на безумную, но вела себя… И он приготовился к тому, что сейчас она может понесет бред, из которого вдруг да что-то будет понятно.
– Ведь вы… – и она назвала его имя.
Батюшки-светы, да его многие годы уже никто не узнавал, а те, кто знал, кто он такой, относились к этому знанию небрежно. И правильно.
– Спасибо, – тихо-тихо, еле слышно сказала она.
– Да за что же?
– Пожалуйста… не сердитесь. Вы можете ничего не говорить, просто уйти… Я понимаю – кто я рядом с вами? Но ведь верующим можно поцеловать край иконы… Мне хотелось поклониться. Сказать, что, благодаря вам, у меня все-таки был в жизни праздник.
Теперь уже он почувствовал, что должен сесть.
Он был артистом одной роли, а спустя годы вообще сомневался, позволительно ли ему причислять себя к этой братии – «это было давно и неправда».
Сам он это всегда объяснял очень скромно – ну дал Бог привлекательную внешность в зрелые годы силушкой не обидел. Видно, что-то в нем понравилось, когда заметили случайно, пригласили.
Он был тогда уже семейным человеком, и больше всех в успехе затеи сомневалась Машенька.
– Ты же такой застенчивый… Зачем тебе все это нужно?
По ее убеждению, чтобы играть, следовало не иметь ни стыда, ни совести.
А в нем – по Машенькиному убеждению – прямо-таки процветала психология жертвы, которую каждый стремится всячески использовать. За его доброй готовностью помочь, видя бесхребетность и услужливость.
Что в нем тогда разглядели, и чем восхищались потом – осталось им до конца не понятым.
По своей роли он так чувствовал, что должен служить женщине. Всем, чем может. И так верно было прописано в тексте каждое слово, так не фальшиво, что и не трудно ему совсем было, а самозабвенно.
И тот год вспоминался именно так, как назвала его незнакомая женщина: праздник.
Значит, ему удалось передать это, что и она так ощутила.
Хотя он просто проживал там свою жизнь, только на всем накале, что был в нем возможен.
Потом была привычная работа на заводе, забота о Машеньке, которая и никогда-то здоровой не была, настолько не была, что он боялся даже заговаривать о детях.
Ему же настолько хотелось детской беззаботности в доме, что он готов был взять детдомовского малыша, и сам бы за ним ухаживал, но Машеньке и постоянное присутствие маленького «энерджайзера» в доме могло быть трудно.
Работая в цехе, о чем думаешь еще, кроме – непосредственно – дела? И дома то одно, то второе, то сотое, то тысячное.
И все же он был рад, что у него такой надежный путь. Вон сколько прежних любимцев публики сейчас хоронят на казенный счет. А у них с Машенькой и пенсия, и какая-никакая сберкнижка, и племянники. «Не будет стыдно», – любимое Машенькино выражение.
Но вот что он сейчас мог? Пригласить женщину домой на чай и устроить вечер воспоминаний? Занести авоську домой и предупредить Машеньку «свожу куда-нибудь поклонницу»?
Что было менее глупо?
…А она уже уходила… ею все было сказано, и самое верное было – не окликнуть ее.
Оставьте свой отзыв
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru








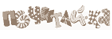


ИЗУМИТЕЛЬНО!
Прекрасно