Юлька
 Телефонный звонок оторвал Юльку от ЧП местного масштаба.
Телефонный звонок оторвал Юльку от ЧП местного масштаба.Владик решил проверить: новая детсадовская черепаха сухопутная или морская? Проверить было просто: бросить ее в аквариум. Поплывет или утонет? Черепаха на провокацию не повелась и отважно изображала водолаза – поди-ка разбери.
Владик рыдал авансом, предчувствуя нагоняй. Юля шарила рукой по дну аквариума, пытаясь ухватить сразу ставший скользким панцирь. Рукав блузки для этой цели пришлось закатать. Багрово-фиолетовый синяк выше локтя выступил во всей красе.
Дети, толпившиеся вокруг, притихли в ожидание спектакля «Уволочение Владика на ковер к Ольге Ванне».
Актером Владик был первоклассным. По внутреннему заказу он краснел и даже приобретал прозрачность налитой соком ягоды, слезы брызгали на все стороны света, а через рот, разинутый в горестном вопле, как говаривала нянечка тетя Ира, «попу было видно».
Уезжал в кабинет к директору Владик исключительно на пузе, тащимый за руку. Цепляясь по дороге мертвой хваткой за все попадающиеся предметы – начиная от ножек стульев, заканчивая входной дверью.
Самая маленькая девочка в группе, Светочка, уже подняла ладошки, чтобы зажать уши, спасаясь от Владькиных криков. Светочка боялась громких звуков. И только Маша, не слишком развитая, даже плохо говорящая еще Маша – дотронулась до Юлькиной руки, стараясь не касаться синяка.
– Тетя Юлечка! Ты ударилась?
Юля открыла рот – для привычной – нет, не лжи, врать детям она не любила, – а отговорки:
– Не переживай, мне не больно.
И тут в дверь заглянула нянечка:
– Иди, слышь, к телефону тебя…
– Кто? – быстро спросила она.
Ей звонили очень редко. Звонок мог предвещать только неприятности.
Ирка пожала плечами:
– Не знаю. Мужик какой-то. Вежливый.
Какой-то – это было уже легче. Это успокаивало.
Телефон был параллельный. Один аппарат стоял в кабинете у заведующей, другой – у медсестры. Она побежала к медсестре, хотя это было дальше. От заведующей поговоришь не со всеми и не обо всем.
– Да? – осторожно, усмиряя запыхавшийся голос, сказала она в трубку.
– Здравствуй, дорогая моя.
Юлька сперва обмерла. А потом быстро-быстро захлопала ладонью по карманам джинсов – искала сигареты. Если… если она не заткнет сейчас себе чем-то рот, она заплачет в голос. А это никак… это совершенно нельзя.
– Юлечка, детка, я завернул сюда. У меня через три часа в Самаре поезд. Я могу тебя увидеть?
Через несколько секунд Юлька спросила:
– Где?
Сигарета уже была у нее во рту. Она старалась хоть часть своих чувств отвлечь на процесс затяжки. Получалось плохо. Может, он решит, что она что-то жует?
– Я здесь, в парке возле вашего Дворца Культуры.
Пять минут ходьбы. А ей нужно по крайней мере еще пять.
– Иду.
Никогда она не думала, что на свидание к самому любимому человеку на свете, побежит, как последняя оторва – купив по дороге в магазине коньяк, и то и дело прихлебывая его – крепости все казалось мало – так что в бутылке скоро осталась половина.
…Он сидел на той самой лавочке, которая была залита солнцем. Конечно, он же южный человек… Она подошла к нему из-за спины, не по дорожке парка, а напрямик, по тропинке, на которой еще не было травы. Только мокрая земля. Шаг получался неслышным.
Подойдя вплотную, она смотрела на него несколько секунд, почти не дыша, впитывая глазами – все в нем.
– Привет, – мягко сказала она.
Он отложил газету.
– Юлюшка!
И протянул ей обе руки.
– Из-за праздничного стола вы меня вытащили, – сказала она, – День рождения отмечали…
Ведь не получится скрыть, что она малость пьяная. Значит, должна быть причина.
Во время их встреч ей приходил на память фильм «Семнадцать мгновений весны». А конкретно – встреча разведчика в кафе с женой. Сидят они в отдалении друг от друга – подойти нельзя, словами обменяться – тем более. Только ситуация отличалась – это она смотрела глазами жены. А ему как бы не сказали, что она здесь. Он жил своей жизнью, свободным сердцем.
– Как дела, дорогая моя?
– Работаем, живем потихоньку. Какие новости могут быть в нашей глухомани?
Он был московским журналистом. Его издание называлось «Путешествие». Несколько лет назад он приезжал в их края писать об аномальных местах Самарской Луки. Время от времени люди наблюдали здесь чудеса. То в непролазных Жигулевских лесах засветятся столбы зеленого света, то НЛО в небесах зависнет, то призрак попадется грибникам на дороге. Правда ли, нет ли – а народу интересно.
– Если же я узнаю о чем-то интересном – я беру билет и сажусь в поезд, – говорил он. – Недавно не сделал этого, и понял – старею.
Писать о краях далеких было ему в самый раз. Был он отлично сложен, в движениях быстр, на подъем легок. Багажом довольствовался самым малым, на еду не сетовал никогда, спал в любых условиях и за пару часов умел высыпаться.
Юльку ему посоветовали в местном музее, как отличного краеведа – это дело со школьных лет было ее увлечением. Несколько вечеров они провели в музее, среди карт, легенд и старых снимков... И за эти вечера Юлька поняла, что все то время, что она его не видит – совершенно пустое и без толку потраченное. А поскольку видела она его с тех пор по два часа в год – можно дать оценку всей остальной жизни.
Чем подкупил? А не поверите. Не внешностью и не столичностью, и даже не мужским шармом. Добротой. Всегда, о чем бы они ни говорили – она отмечала мягкость его интонаций, всякое отсутствие раздражения и добротою исполненный голос. Юлька понимала – этот человек не способен не только на жестокость, но и просто не непорядочный поступок.
Конечно, он носил на пальце кольцо. Она не задавала ему вопросов о семье – ей совсем не хотелось этого знать. Видит его – с нее и довольно. Если бы он принял решение что-то изменить в своей жизни, она почувствовала бы это раньше, чем он сказал.
– Как дома? Как мама?
«Мама болеет, отец пьет».
Это не было произнесено.
Если бы он узнал, что побои стали для нее нормой – с тех пор, как отец фактически перестал быть человеком – он не уехал бы, не попытавшись что-то изменить в ее судьбе. А ей хотелось, чтобы в его памяти осталось хорошее.
– Все нормально. Главное, до весны дожили. Скоро здесь будет так красиво – водопады зелени. Не собираетесь еще приехать?
– Юлюшка, если смогу. Мне еще многое хочется у вас посмотреть. Но как загонят меня сейчас на Камчатку…
– Правда?
Он засмеялся.
– Не знаю. Очень даже вероятно. Без командировок мы и месяца не сидим. На Кавказ хотелось бы. К нам, в Осетию. Давно не был…
Как можно любить тишину родины и жить в большом городе?
– Юлюшка, ну расскажи о себе…
Так. Ну-ка, рыжий, на арену…
– Я все в детском саду. С самыми малышами. Очень здорово – они такие милые, глупые… В парке гуляем. Дома у нас теперь кошка живет. Летом, может, в поход пойдем. Нет, не туда, где мы с вами были. Куда-нибудь совсем в глушь. На Чарокайку, например…
– Название-то какое, – он вздохнул. – Запросто бы сейчас наплевал на поезд…
– А зачем вас присылали в наши края? – спросила она.
Сейчас можно будет кивать и делать вид, что слушаешь, и смотреть на него, и стараться, чтобы их глаза не встретились – потому что в ее – как в открытой книге: хочется ткнуться в его черное, нагретое солнцем пальто, и так остаться на этой лавочке… может, даже на века, как памятник.
– Есть тут у вас поблизости такая удивительная ферма…
Так и было. Она слушала, кивала…
– Юлюшка, мне пора… Электричка на Самару через четверть часа. Жаль уезжать, очень.
Он тоже встала – поспешно, и стояла близко-близко к нему, склонив голову. Он вдруг поцеловал ее в волосы. Мягко, невесомо оборвалось сердце… Дорожный запах его свитера, колкость бороды…
– Я запишу тебе свой новый телефон. Звони. Мне всегда так радостно поговорить с тобой.
Было без двадцати пять. Идти на работу уже не стоило. В маленьком городке до своего двора о – пять минут. Она уселась на лавочке, у кустов сирени, на которой и почки еще не распустились, и прямо из горлышка допила коньяк.
Это сейчас привозят гробы из Чечни. Его время было – Афган. В последнюю перед армией ночь над ним плакала его молодая бабушка: «Ты мой солнечный лучик…»
Сейчас, глядя на свои фотографии той поры, он мог сказать отстраненно: «Да, уж, солнечный лучик».
Высокий, белокурый мальчик со светлым лицом, знавшем о зле, но уверенным, что его побеждает добро. Прекрасно танцевал, пел под гитару. В будущем хотел работать с животными – где-нибудь в заповеднике.
Эта легкость характера и природное веселье еще долго сохранялись в нем, не смотря ни на что. И рядом с ним – другим – было легче. Существовало даже негласное стремление: «Беречь Танцора».
Он вернулся. Только бабушка не узнала его даже по голосу, когда он позвонил с вокзала – сказать, что едет.
– У тебя болит горло? – только и нашлась, что сказать она от волнения.
Он засмеялся – так же хрипло и незнакомо.
А когда он уже стоял в дверях, бабушка поняла, что ее Алешка на этой войне все-таки убит. И заплакала, как по покойнику. Тот, кто вернулся, был совершенно чужим человеком. Стариком.
Волосы не белокурые, а просто выбеленные до всякого отсутствия цвета, взгляд жесткий и цепкий, как у соседа Петьки-уголовника, лицо обветренное и даже в морщинах. В двадцать-то лет…
Но хуже всего было не это, а его крики по ночам. Когда человек кричит ночью, и даже не кричит, а мычит – со стиснутыми зубами, но во весь голос – это жутко. Это совершенно нечеловеческие звуки.
Он кричал каждую ночь. Голова болела все время. Он бился головой о стену.
– Алешенька, расскажи…
– Я не могу рассказать. Это нельзя рассказать.
– Молись, Алешенька.
Совсем обессилев, он тихо, по детски плакал.
В конце концов бабушка не выдержала.
Как-то придя к нему в самый глухой час ночи, чтобы разбудить от очередного кошмара, она сказала неожиданно жестко. Он и не думал, что у старой женщины в голосе еще столько сил.
– Страшно, да? Ты думаешь, после того, что видел – нельзя жить? А теперь подумай о том, как я жила с детьми в оккупации. Ты видел трупы? Я видела как они были навалены грудами – много выше, чем в человеческий рост. Там, где мы жили, дважды шли бои. Когда наступали немцы, и когда их гнали. Нас бомбили. Моим детям было шесть лет и три. Нам некуда было бежать. Они просто вставали на колени посреди комнаты и молились, чтобы бомба не попала в наш дом. А твоя мама залезала под кровать – ей казалось, что уж матрас-то бомба не пробьет.
Ты представляешь это, когда каждый немец на улице может застрелить твоего ребенка – просто из прихоти? И нам нечем было защищаться, некуда спрятаться. Мы изголодались до того, что сын уже не мог стоять – его ноги не держали, я его на руках носила. А когда кто-то болел, лечить было тоже нечем. И я только молилась, а вместо сердца уже ничего не было. Оно выболело.
– Какие вы – думаете, все только на вас! – говорила она с недоброй улыбкой. – Хуже, чем матери с беспомощными детьми, за которых она в ответе, тебе быть не могло и не может. А потом мне надо было найти силы, чтобы дом поднимать, кормить детей, учить… И никакой поблажки мне никто не делал. Не смей жалеть себя! Слышишь!
…Он стал работать в службе спасения.
На подвиги круче открывания захлопнутых железных дверей и снятия в верхушек деревьев по глупости забравшихся туда любимых кошек, рассчитывать не приходилось.
Но работа выматывала, и кошмары снились все реже.
А потом он стал отмечать – и сравнивал это состояние с глухотой, что ничего его не трогает глубоко. Будто душа не слышит происходящего вокруг. Он уже не мог рассмеяться от всей души, и заплакать теперь тоже не мог. Не существовало теперь ничего, что он принял бы близко к сердцу. А чего стоит жизнь, когда в нет места улыбке?
Тогда он назначил встречу своей старой знакомой – Наталье, которая в школьные его годы еще начинала, а теперь все успешнее вела танцы во Дворце культуры.
Наталья его, конечно, тоже не узнала.
Она поднималась по широкой – хоть парад устраивай – парадной лестнице Дворца. Такой, до выбоины в ступеньках, им с детства знакомой.
Он сидел на корточках, и сперва увидел ее ноги в замшевых туфельках на каблучках-шпильках. Именно ей, с прекрасным чувством равновесия, легко было их носить, и сколько он помнил, она всегда бегала в такой нарядной, праздничной обуви.
Он уже знал, как на него реагируют, и сказал:
– Очень приятно, будем знакомы.
– Шутишь, – после паузы сказала она. И еще после короткого молчания – осторожно, – Ты что, был на пластической операции наоборот?
– Почти. Еще немного, и из меня бы вышел такой классный ангел… Наташка, подыграй мне, а…
– М-м? – не поняла она.
– Хочу поставить танец…
Если бы он сказал, что принес план минирования ДК, она бы его поняла больше. На террориста он сейчас очень тянул. На такого особо опасного террориста.
– Какой танец?
Она теперь больше увлекалась восточными. Блистала в красном шифоне и звенящих при каждом движении украшениях.
– На музыку Джо Дассена…
…Репетировать удавалось только вечерами понедельников. Все остальное время у нее были группы.
Уже почти сразу он понял, что был прав.
Наталия, со своим нравом – беззаботнее мотылька, как-то сразу примерилась к нему, новому. Ее вовсе не интересовало, где он был, она покрикивала на него, как в лучшие времена, когда он ошибался в движениях.
Она далеко ушла вперед за эти годы. Он же, усвоив мгновенную быстроту реакций, полностью отвык от той игры тела, которую предполагают танцы.
Он учился этой игре, принимая раскованность, вначале – как опасность, затем – как возможность, и лишь нескоро – как наибольший комфорт души и тела.
Наталия озаботилась и костюмами, что еще больше внесло праздник в их номер. Знаменитая «Така-та» предполагала ковбойские, и она подобрала все – и даже шикарные стильные шляпы им обоим.
Она же сказала, что получается – ого-го, и с этим надо выступать, и вытащила его на восьмимартовский концерт. Аура зрительского зала, кружащая голову, как шампанское, и то, как им хлопали, было последним штрихом. Он почувствовал, что человеческое в нем вернулось на круги своя. И теперь – пусть обретенная суровость остается, но и минуты радости у него никто не отнимет.
Алексей возвращался с работы. И уже держал в руках ключ от подъезда. Хотя, когда он открывал железную дверь, ободранные стены и сомнительный запах вызывали усмешку – что сторожим?
– Мужчина, а мужчина…
К Алексею уже никто бы не обратился – «парень», «молодой человек»…
Он сразу понял, что это ему, и пошел на зов.
Из глубины двора ему махала женщина. У нее было лицо состарившейся ответственной пионерки.
– Мужчина, помогите поднять вот девочку. Ее надо в четырнадцатую квартиру. Я ее знаю.
Лежащее на земле существо представляло нечто среднее между ребенком и девушкой. Длинные спутанные волосы, ростом маленькая – сейчас в шестом классе выше бывают, и резкий запах спиртного, ощущаемый нагнувшимися над ней людьми.
– И часто она так? – спросил Алексей. Столь спокойно и беззаботно спать на земле могла лишь законченная алкоголичка.
– Вы что! – возмутилась женщина. – Это Юля! Она вообще нормальная, она ж в детском саду работает. Может, случилось чего…
– Тогда лучше «скорую»…
– Говорю вам – помогите мне ее в четырнадцатую квартиру доставить. И она должна сама на ногах стоять. Иначе отец ее совсем убьет. И так уж чуть не каждый день полосует…
– За что?
– А кто б сказал – за что? – сердито откликнулась женщина. – Сам уже невменяемый. Алкаш чертов! Чудится ему, что Юлька гуляет со всеми – направо и налево. Какая гульба! Я ж соседка – вижу: в семь часов она в садик бежит, а с работы – в магазин, и домой. У нее ж мать лежачая, уход какой! Юлька и на балкон-то лишний раз не выйдет – некогда ей. А может, и за балкон ремнем бы получила… Раньше алкашей хоть в ЛТП забирали, а теперь куда их? Да нас раньше ногами вперед вынесут, чем этих сволочей.
Алексей осторожно приподнял девушку. Казалось, всей тяжести там – стеганая голубая курточка. Но задача была иной. Требовалось изобразить, что человек идет сам. А посему действие напоминало нечто времен гражданской войны «Брось меня, комиссар…»
Он закинул ее руку себе за шею, и так они двигались, причем она ногами земли почти не касалась.
Квартира ее была на первом этаже. Он передал Юльку соседке, кивнул, чтобы она звонила в дверь, и поднялся на один пролет выше.
– Ах ты, сука! – почти обрадовано взвыл мужской голос.
Причем Алексею почудилось в нем торжество, наступление долгожданного момента. Будто нелюдь все ждал и ждал, когда можно сорваться. И миг пришел.
– Юля! Юлечка! – звали из глубины квартиры, слабо и тревожно.
– Пал Кузьмич, я ведь щас милицию вызываю… Да не маши ты кулаками, это ты девку довел… Ну что ты на меня-то – я сына приведу, он те щас рожу отполирует, – торопился уже знакомый голос соседки.
Дверь хлопнула так, что вздрогнули стены. Теперь все, что творится за этой дверью, не касается никого, кроме обитателей квартиры.
Юлька проснулась рано, еще до звонка будильника. И была этому несказанно рада. Можно сразу не вскакивать. У нее болела голова, но она сразу вспомнила – вчера напилась впервые в жизни. Значит, боль объяснима. Могло быть и хуже.
Важнее другое. Она потянулась в ящик письменного стола, что стоял рядом с кроватью. Там у нее хранилось зеркало. Это было ее первое дело, каждое утро: смотреть, есть ли синяки на лице? Кроме лица, их везде можно спрятать. А вот если на щеке или на лбу…
Потом ей пришла мысль, и она села – быстро, с легким стоном прижимая ладонями ноющие виски. Может, мама звала ее, а она не слышала. Ничего ли не случилось за ночь?
Мама ходила сама, но немножко, совсем немножко. Больной позвоночник не давал. Она не всегда могла бы дойти до Юлькиной комнаты и сказать, что ей плохо.
Юлька накинула халат. Вчера она, оказывается, только джинсы сняла – так и заснула в майке и трусиках, позорище. А в коридоре можно было встретить… этого. Называть его отцом она даже про себя не могла. Перед ним так же неловко было предстать без халата, как перед чужим. Хотя лично он в запое мог разгуливать подобно Адаму.
А квартиру разменять, чтобы они остались вдвоем с мамой, без доплаты не получится. С ее зарплаты только квартиры менять, как перчатки…
Мама спала – слава Богу. Юлька хотела умыться, но это… недоразумение… засело в ванной. У него была привычка – оседлать белого друга и курить папиросу за папиросой. А попросить выйти – значит откровенно нарываться. Вчера вроде бы сильного столкновения не было. А может, она просто не помнит.
Он запросто может перенести концерт по заявкам на сегодня.
Юлька ополоснула лицо в кухне. Заглянула в холодильник – так, суп еще не кончился, молоко есть, кусочек сыра. Она позавтракает в садике, а маме хватит. Можно быстренько уматывать.
Она прокралась к входной двери тихо, как кошка.
– Вы простите меня, – говорил высокий, широкоплечий мужчина, глядя в пол.
Юлька ничего не понимала. Ее вызвали из группы, она стояла у входной двери в белом своем халатике и смотрела недоуменно: кто это – родитель?
Алексей ощущал: здесь непередаваемо пахло детством.
Он пришел вообще-то посмотреть, все ли с ней в порядке. Со вчерашего дня не мог найти себе места, что все произошло так быстро, и он не успел вмешаться.
С другой стороны – мало ли что сказала соседка… Последнее, чего он хотел – вмешиваться в чужую жизнь, в нюансы отношений.
Но эта полудевочка, стоящая перед ним, с глазами усталыми, и такими беззащитными… Впервые за много лет ему показалось, что вернулся он в прежнюю жизнь, и что она – как первогодок, без его помощи – птенец, под замахом камня в недоброй руке.
Видимо, она не помнила ничего. И объяснять сейчас было бы самым глупым.
– Можно мне вас проводить? – спросил он.
…А к ним, оказывается, приехал цирк. В весенней тиши парка, еще не открытый горожанами, он выглядел сказочно. Переливающиеся огни каруселей, застывшие на кругу расписные лошадки, цветной, украшенный флажками, шатер… Негромкая – будто тоже издалека – из детства – музыка. И ни одного человека.
Их путь был через парк, через площадь с цирком, и дальше… Он не взял ее под руку, но их плечи, касаясь, поддерживали друг друга и этим…
Оставьте свой отзыв
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru








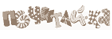


Спасибо Вам.
Ой, классно написано..Молодец вы, все так жизненно. Как же жесток наш мир стал.
Да, в жизни все так трудно, а живем…. выживаем.
Немного похоже на сказку. Но и взрослым они нужны, что бы найти в себе силы все изменить.
Но, к сожалению не всем так везет.
А бабушка Алексея классно сказала-очень понравилось.