Графиня Вера
 М. Кантемирову
М. Кантемирову Меня зовут Ромалия, Маля. Я больше не встречала людей с таким именем. Но так звали цыганку, которая нагадала маме счастье.
– Такое, что сама верить не будешь.
И счастье стало созвучно имени – Ромалия.
Мне уже тридцать два. Христос через год умер. А я не могу понять – было счастье в моей жизни или нет. А что не будет – это ведь – почти верняк?
Я сижу в старой кофейне, гляжу в рюмку, на дне которой осталось несколько капель красного вина, и понимаю, что пьянство сегодня – не судьба.
Бутылка уже почти опустела, а у меня болит сердце – и только.
Я знаю, что любимому человеку я не нужна, не нужна настолько, что он не рад даже случайным встречам, когда можно бы и притвориться, а рад, когда поздоровавшись и бросив пару фраз, можно уйти.
У него есть семья, много семьи, если считать родных в той или иной степени. А приятельствует он, кажется, со всем городом. Мне же из этого города лучше скрыться, чтобы не попасться как-нибудь весенним вечером ему на дороге, и не увидеть мгновенно появившуюся глубокую линию меж бровей.
– А, это ты…
Мне некуда деться в большом городе, потому что как назло, как на пятачке, мы все равно встречаем и встречаем друг друга.
– Наплюй, – сказала подруга Анька, – Уедь. Хочешь выход? Бери мою дачу в деревне.
– А потом толкнешь кому-нибудь дачу и меня в придачу, – машинально сказала я.
Мне мечталось, чтобы она тоже ушла. Когда такое настроение, хочется, чтобы все ушли. Лежать, пить, и чтобы тягучие мысли приходили в голову. Это – естественно. А остальное – нет.
– Слушай, дура, – сказала Анька, – Еще немного, и будут уколы, таблетки и прочая хрень. У меня там домик над речкой. Если ты не умеешь топить печку, то теперь май. И вообще это нетрудно. Там есть старый замок. Ты сможешь ходить на экскурсии. Прошвырнешься по магазинам – их там два. Во чисто поле – оно там тоже есть. И нигде не будет его.
Я протянула пальцы и пошевелила ими. Анька не поняла.
– Давай ключ, – сказала я.
Дом больше напоминал сарай. Размерами и степенью запустенья. Но окно выходило в палисадник, а под окном росла сирень. Она цвела. Самым обычным цветом, так и названным – сиреневым. Но естественен он в химических красках. А в природе – дивен.
Дом деревянный,
Лавка да свечка…
Я распахнула старую, скрипучую раму, рискуя мутными стеклами. Сирень была – как букет у окна.
Так меня встретил дом.
Первое время я отсиживалась, как старая бабка на скамье возле дома. Сидела, подставив лицо солнышку, и ничегошеньки не хотела. Ни готовить еду, ни обдумывать перспективы.
Мне было достаточно мысли, что вокруг только чужие, незнакомые люди. Никто из них меня не знает, никто не имеет власти над моей душой.
Это было не менее важно и физически ощутимо, чем почти горячий майский воздух, настоянный на аромате сирени.
Я была тут просто свободна, и то, что прежде ощущалось болью: так хорошо вокруг, а он… и неизвестно, когда… – все это хорошее теперь было само по себе, и ему позволительно было радоваться. Что за прелесть например, эта нежная трава под босыми ногами…
Скоро я стала выходить – сперва на маленький рыночек неподалеку. Торговали там только рано утром, и к той поре, что называется утром в городе, торговля уже стихала, все расходились. Я приносила еще теплое молоко в трехлитровой банке, розоватый творог. Еще – мед, домашний хлеб. Здесь уместно было есть только такое, и я ни разу не соблазнилась заходом в магазин.
Село тоже постепенно становилось знакомым. Немногочисленные дома сбегали по склону холма вниз, к реке – какой, я думала, не может быть в нашей средней полосе.
Там, где ветра и течение не позволили быть земле, обнажились гранитные берега. И шумными бурунами меж них вилась речушка, сродни какой-нибудь кавказской. А по другую сторону реки, вернее, на небольшом острове, ею образованном, стоял замок.
Говорили, что ему много веков.
Я никогда не испытывала умиления, или настоятельного требования душевного знать дату, и не пыталась ее узнать. Достаточно было выразительных слов – «во времена короля»…
Во времена короля здесь, в этом легком, пронизанном светом голубовато-зеленом дворце, который все упорно именовали замком, наверное, из-за тяжелых стен ограды, играли балы, и отсюда отъезжали кареты.
Хозяева замка не были всевластными господами над этим селом и его жителями. Вспоминают, что делалось ими много доброго. Был тут построен монастырь, школа.
Но когда в замок пришла беда, облагодетельствованные люди ничем не смогли помочь. Графиня запретила единственному сыну жениться не девушке, происходившей из неприятной ей семьи. Сын принял запрет смиренно, и через несколько дней был убит на дуэли братом своей бывшей невесты.
Нескоро после этого графиня вернулась… и к людям, и к добрым своим делам. Но если, выйдя из затворничества, она все же показывалась ненадолго, то состояние ее теперь почти полностью было отдано благотворительности. И революции было бы нечего у нее отнять, кроме этого дома, но она не пожелала испытывать на справедливость новый строй и покинула родину перед приходом сюда красных.
В эти дни безвременья замок не опустел. В нем осталась юная Вера – племянница хозяйки. Девушке было все равно, какая буря разразится над ее головой – она ждала своего жениха, офицера белой гвардии. Она не мыслила, что ей, безобидной для окружающих, может что-то грозить. Любовь свою она так и не дождалась. Красные расстреляли графиню Веру. Об этом знали, но где это случилось, не мог указать никто.
Как водится, родилась тайна о зарытых сокровищах. На протяжении многих лет тут роились кладоискатели, начиная от простых мужиков и заканчивая студентами с археологическим снаряжением.
Никто ничего не нашел, и старожилы утверждали, что иначе и быть не могло.
– Бессеребренники они были. Только замок, почитай, у них и оставался….
Теперь в замке был краеведческий музей, экспонаты которого в основном рассказывали о последней войне. Но один зал был посвящен ушедшей отсюда семье. От нее почти ничего не осталось – документы, несколько фотографий. Вещи уже давно уплыли из замка, а сокровища все не находились.
Самым близким жильем возле замка было нечто вроде фермы. Небольшой дом с мезонином окружали конюшни. Я узнала, что те, кто приезжал сюда на экскурсии, могли взять лошадей и прокатиться по дорожкам парка, что окружал замок.
Вскоре пришлось познакомиться и с владельцем фермы.
Утром, захватив с собой хлеба, колбасы и молока, я шла к реке, чтобы, по сложившемуся уже обыкновению, провести там часть дня.
Это не был досуг дачника. Я не загорала и не купалась – вода в шумной и быстрой речке в марте была еще ледяной. Я выбирала место на берегу, чтобы можно было прилечь в тенечке, растягивалась на траве и думала, думала… О том, что жизнь, похоже, истощилась, как глохнущий родник. Нет ни любви, ни детей, ни работы – ничего, к чему я в свои уже не юные годы могла сказать, что пришла.
Маленькая квартирка с видом на котельную, необходимость искать себе труд, чтобы заработать кусок хлеба, и полное равнодушие того, по отношению к кому мое сердце еще – рана. Я снова и снова говорила себе, что останусь здесь до тех пор, пока рана эта не начнет затягиваться.
Что уместнее всего мне будет, найдя работу, тотчас подумать об усыновлении ребенка. Даже если сейчас, в апатии, мне кажется, что без стакана воды в старости я как-нибудь обойдусь, сделать это необходимо именно ради чьего-то брошенного дитя.
Смысл жизни я всегда видела в сделанном кому-то добре, а посвятить эту жизнь тому, кому хотела, я не могла.
Итак, где выход, господа присяжные заседатели?
В эти мысли я была погружена, когда впереди сухими выстрелами простучали копыта, и я буквально нос к носу столкнулась с всадником.
Я шарахнулась в сторону. Лошадь в городе – диво, и я, непривычная, была уверена, что она не сможет достать меня копытом, если отбежать далеко.
И только, услышав голос, я осознала, что лошадь – это не дикий зверь, который сам по себе, что она подчиняется всаднику, и пожалуй, подчиняется так же, как слушается его собственное тело.
– Простите, что напугал вас. Но… это же не тигр. Гнедой конь и верно стоял совсем смирно.
Мужчина оглядывал меня, я – его.
Что представляла из себя в то утро я? Выкрашенные под блондинку волосы собраны в хвостик, лицо, естественно, не накрашено, серая юбка ниже колен, свитер-водолазка, в руках – пакет с харчами, подстилкой и книжкой.
То есть, самая обычная тетка, каких пруд пруди. Такую и задавить не жалко.
Он...
Поскольку он не спешил спешиться, я видела только, что он широкоплеч, и явно не русской национальности. Черная борода пол-лица закрывает. Черты с первого взгляда кажутся резкими, даже некрасивыми, и только присмотревшись, можно заметить и благородную лепку носа, и безупречную линию губ… И взгляд – быстрый, пристальный, схватывающий суть.
Он чуть тронул коня, и тот сошел с тропинки. Мужчина сделал мне приглашающий жест – проходите.
Видно, он заметил, что я заколебалась, стараясь спуститься подальше от его лошади, обойти ее как это только возможно.
Улыбка снова возникла на его лице. Он спрыгнул наземь и вдруг уверенно взял мою руку.
– Страху надо идти навстречу. Иначе нельзя, – сказал он. И положил мою ладонь на морду лошади.
Теплая, шелковистая, умные глаза и даже трогательные ресницы. Мужчина вновь усмехнулся – добро и удовлетворенно. Еще один человек перестал бояться тех, кого он так любил.
Он легко вспрыгнул в седло, и кивнул туда, Где за холмом скрывались и замок, и ферма.
– Приходите – научитесь ездить!
Я и ответить ничего не успела. Не было уже всадника.
Вокруг – только утро. Мое утро. Шум воды и нега нагретой солнцем травы. И тишина.
Срок отпуска моего был не определен. С подругой мы не переписывались, не созванивались. Аня дала мне зеленый свет – когда уеду, когда приеду – мое дело. О том, что в загородный дом свой она наведывалась нечасто, говорило его запустение.
Но меня вовсе не тяготило однообразие дней. Это была новая жизнь. Которая мне нравилась.
Я часто, почти каждый день, ходила в замок, так что уже чувствовала себя причастной к нему. Особенные мысли рождались, когда я выходила на заднюю дворик, на лужайку, где посреди изумрудного весеннего газона возвышалось маленькое белое надгробие – могила любимой собаки.
"А девушку, которая здесь жила, сочли хуже собаки", – думала я.
Одухотворенное тонкое лицо, чья нежность подчеркивалась кружевами у горла. Ее маленький портрет висел в музее – рядовой поблекший экспонат у двери.
Вторым местом, куда я частенько заходила, был храм, тоже старинный, восемнадцатого века. Его резные входные двери уже таили в себе вечность.
Когда-то красноармейцы сняли с колокольни колокола, чтобы их переплавить. Но Бог не попустил. Колокола свалились с баржи и утонули. Ищи-свищи их теперь в реке!
Самыми хлопотливыми труженицами тут были монахини. Во вновь созданном маленьком женском скиту, занимавшем пока два ближайших дома.
Серьезная, не смотря на то, что ей едва ли исполнилось двадцать, хроменькая и в очках сестра Мария пела так, что я во время службы не выдерживала и убегала. Слезы струились по лицу неудержимо. И мне казалось, окружающие думают – какой же страшный грех она совершила, что рыдает так?
Да просто жила. Это пробуждалась душа, это я оплакивала жизнь, в которой, как поняла здесь, не было ни осознания истины, ни стремления к высоте.
Видно, одна настоятельница, мать Евдокия, понимала, что делается со мной. Она ни о чем меня не расспрашивала, но при встречах улыбалась с ласковой жалостью.
Познакомились мы ближе и с Мухтаром – тем, кто в первую встречу научил себя не бояться. Он все время был занят со своими лошадьми, но при встречах неизменно прикладывал руку к груди и кланялся.
Со всеми ли он был так, или чтил меня, потому что я женщина, гость его села? И считал ли он это село своим?
Мне рассказали, что он богатого кавказского рода, но во время войн, как язвы разъедавших горный край, его семью убили просто за то, что в них текла еще и русская кровь. Я страшилась спросить – кого убили? Жену? Детей?
Да, в тишайшей жизни этих мест много боли.
На ночь ворота замка не закрывали, хотя когда-то так было предусмотрено. От массивных ворот осталась одна арка. И все теплое время года до глубокой ночи в парке можно встретить молодежь.
Где еще так поют соловьи?
Уверяясь, что здесь почти всегда кто-то есть, я засиделась тут до тех пор, пока закат совсем уже не померк, и на земле там и сям зеленой россыпью замерцали светляки.
Дорожки парка, серые и совсем обыкновенные днем, в темноте словно засветились изнутри, стали казаться белыми.
Чтобы выбраться отсюда, надо было идти или по главной дороге, неторопливой, плавной дугой огибающей парк, или напрямик, проложенной людьми тропкой.
Близость дома, красота окружающего, похожая на сон, побудили меня быть смелой. Я шагнула на тропинку. Кустарник по обеим ее сторонам рос так густо, что оставалось только ввериться и идти по тропе – свернуть с нее было уже невозможно.
Я приподнялась на цыпочки, чтобы понять – далеко ли еще осталось, не увижу ли блеснувшую реку, и увиденное приковало меня к месту.
Явное мертвенно-зеленое свечение в глубине леса, будто там сам по себе жил столп света.
Зачем? Зачем? Но я уже шла туда.
Страху надо идти навстречу. Иначе нельзя.
В льющемся лунном свете несомненными очертаниями стояла женщина. Линии и перепады света и тьмы, будто карандаш художника, а не реальность жизни, намечали контуры плеч, изящной маленькой головы, длинной косы.
Женщина не была неподвижна – она начала поворачиваться.
Я поняла, что взглянуть ей в глаза невозможно. И закричала дико, как перед смертью. И ничего не стало вокруг.
Меня вернул в мир не едкий, больничный запах нашатыря, а прикосновения рук, стремительно обегавших тело. Чьи-то пальцы на мгновение припали к шее, удостоверяясь в пульсе, ощупали голову, грудь… И тут уж меня встряхнули от всей души, в пароксизме тревоги не заботясь об осторожности:
– Маля, что с вами?!
А мне уже было ничего не страшно. После того, что я пережила… все казалось сном или бредом. Ночь кругом. Очень тонкий, почти прозрачный месяц… человек. А закроешь глаза – и ничего нет.
– Маля, что с вами сделали?!
И тут уже, принужденная вернуться в реальность, из омута – на поверхность, я поняла, что рядом на корточках сидит Мухтар, и лицо его – страшное. И телефон уже взброшен к уху.
Сейчас он вызовет «скорую». Хотя впору – психушку.
– Не надо, – попробовала сказать я, поскольку не знала, подчинится ли голос. Какие-то звуки потерялись, какие-то остались. Но он услышал и даже понял.
– Это кричали вы? Что?! Не молчите же!
– Я в порядке... Может, только ушиблась. Потеряла сознание. От страха.
Он смотрел на меня с той же тревогой, почти с ужасом – что я сейчас скажу ему?
– Ничего. Когда услышите, решите, что ерунда. Я расскажу. Сейчас, немного приду в себя и расскажу.
Больше всего мне хотелось, чтобы это был все-таки сон. Чтобы закрыть глаза – и этого не было.
Он взял меня на руки. Мне всегда казалось, что нести на руках – тяжело. Но он поднял меня одним движением, осторожно, как ребенка.
Грубая ткань его куртки, к которой прижалась моя щека, необходимость довериться – мое тело просто плыло над землей, и его руки, казавшиеся до болезненности горячими, наверное, оттого, что я так заледенела.
Его редко можно было встретить пешим, он мало куда отправлялся так. И сейчас он принес меня к лошади.
– Удержитесь чуть-чуть… минуту…
Он усадил меня и тут же вспрыгнул в седло позади.
А… да… это же сад возле старого дома. Сад на холме. И лошадь, тронувшаяся вниз по тропе – первым у подножья тропы будет дом Мухтара.
А если сейчас мрак меж стволов деревьев сменится тем мертвенным зеленым светом, и я снова увижу Ее?
– Я ее видела, – сказала я.
– Кого?
– Графиню Веру.
Вот тут он выдохнул глубоко, будто только сейчас получил возможность дышать. И погладил меня по волосам – ни дать, ни взять, девочку, выбежавшую из темной комнаты. Не бойся, милая, там ничего страшного нет.
Интересно, а он напугался бы призрака?
Совершенно правильно с его стороны было то, что он не пожелал везти меня в мою избушку, а прямо остановился у своего дома.
Все так же уверенно, не позволяя ни себе, ни мне и тени сомнений, Мухтар поднял руки, чтобы снять меня с седла.
– Я, наверное, уже смогу идти сама.
– Ради Бога, только ни о чем не задумывайтесь. Утром все будет проще.
Я поняла, что он хотел сказать. По моему лицу он видел, что я встретилась с чем-то таким, что за гранью рассудка. И, воскрешая это в памяти, можно было рассудка лишиться.
А ясное солнышко все сделает сном. Просто сном.
Я же, напротив, знала, что ничего не забуду, но, чтобы обдумать то, что я видела, требовалось хоть немного унять дрожь, обрести хоть часть прежних сил.
…Ясное дело, в доме у Мухтара не имелось мягких диванов и парадных гарнитуров. Отгороженная простым шкафом стояла кровать, крытая пушистым пледом в красно-черную полосу.
Он сдернул этот плед, усадил меня на постель и пледом со всех сторон укутал.
Время, пока он готовил чай, пролетело удивительно быстро. Казалось, что прошло несколько мгновений. Я только начинала ощущать тепло, мягкий ворс ткани и наслаждалась этими простыми ощущениями, столь отличными от мистики, которую пришлось пережить.
Мухтар вошел, неся большую, не меньше пол-литра, светло-зеленую кружку, со стершимся уже рисунком – какие-то сердечки, что-ли… От кружки шел пряный пар.
– Тут чай и коньяк, – сказал он, – Хотя бы несколько глотков. Но лучше побольше.
Я взяла кружку, и не смотря на то, что она почти обжигала пальцы, мне так вдруг захотелось, чтобы он, эту кружку передавая, свои пальцы задержал на моих, не убирал.
Голос, которым говорит тело, куда более ощутим, чем простые слова. Он может быть почти неощутим, но и таким он более внятен, чем шепот.
Его пальцы лежали на моих. Он только что нес меня на руках, и все же только сейчас, чуть отойдя, я стала испытывать… такое.
Я зажмурила глаза. А когда открыла, поймала его взгляд. Он смотрел на меня – и не было в его взгляде вожделения. Один тревожный вопрос любящей души, которая боится истолковать надежду превратно – ибо это означает конец всему.
Я поставила кружку и прижалась к Мухтару, ища на его груди того блаженного покоя, который возможен только «у Христа за пазухой».
На другой день, подробно расспросив меня обо всем, Мухтар куда-то ушел.
Я не спрашивала, куда. Не спрашивала его и о том, как он отнесся к моему поступку и к тому, что вчера произошло между нами.
Этого моего свойства никогда не могла понять мама.
– Это что – пофигизм? – вопрошала она. – Тебе все равно? Такая беспечность в твои годы – это не милая ребяческая доверчивость. Это – идиотизм.
А я в таких случаях чувствую. Чувствую несомненно, как если бы мне не просто показали, а дали увидеть, что будет.
Так я знала, что Мухтар не счел мои слова бредом, и по крайней мере постарается своими глазами увидеть все и понять. Что он потом объяснит мне ту правду, к которой придет сам.
И наконец то, что если я захочу просто уйти, или сделать вид, что вчерашнего не было – это будет таким горем для него, какое мне пока трудно представить.
В его отсутствие я стала знакомиться с домом. Похоже, он был самым старинным из числа сохранившихся в селе. Не считая замка, конечно. Теперь можно построить что угодно, но теперь строят не так.
Внизу я насчитала четыре комнаты, разделенные по две нешироким коридором.
Комнаты были невелики, но благодаря бревенчатым стенам, давали ощущение основательности. Света сюда тоже проникало немного – через узкие окна. Здесь имелось немало предметов прошлых лет. Видимо, Мухтар ничего оставшегося от старых хозяев не выбрасывал – из уважения к их памяти, к дому.
Прялка в углу, резные серебряные шкатулочки на полках, ископаемый утюг, кружевом обвязанное полотенце… Его собственных, нынешнего дня вещей здесь было гораздо меньше.
Осторожно пройдя из одной комнаты в другую, я решила подняться по лестнице. Очень крутой, и может быть даже опасной – этими своими высокими ступенями и острыми краями.
Наверху было одно-единственное помещение, мансарда, напоминающая чердачок. Но окна выходили на все три стороны света, и тут было так же светло, как на улице.
Мебели здесь почти не имелось, и я представила, как прекрасно бы тут встал письменный стол, и как здорово было бы, отрываясь от работы, поднимать голову и смотреть на необъятное зеленое полотно полей, мирно лежащую внизу деревню, церковь, гармонично вписывающуюся в этот пейзаж и серебряную ленту реки. Заднего двора и конюшен отсюда не было видно, но ржанье лошадей слышалось отлично. Это были самые естественные звуки тут, без них картина не была бы полной.
Я все сидела в мансарде, медля уйти, зачарованная открывшимся видом и теплым солнечным светом, который тут царил.
Потом я заметила человека, быстро поднимавшегося по тропе.
Без лошади походка у Мухтара была хотя и быстрой, но тяжелой, резкой. Как будто от каждого шага он ожидал напряжения, преодоления. Наверное, в его родных горах постоянные подъемы и спуски требовали именно так.
Цепляясь за перила лестницы, еще не привыкнув к коварству ее ступеней, я сбежала ему навстречу.
– Ну?
Он перевел дух, и поманил меня за собой в комнату, где я должна была сесть.
– Я хочу, чтобы ты выслушала спокойно. Все очень просто. Думаю, что вчера ночью ты действительно видела Веру. Но не бойся, не бойся – он сжал мои плечи, заметив что я объята ужасом. – Этого больше не будет. Мы пошли туда вдвоем… я позвал врача. Он все спрашивал – зачем?
– Ты клад нашел? Брось! Сокровища графини Веры – сказка. Должна же у нас здесь быть своя сказка… Пусть люди едут.
Я стал копать в том месте, где ты сказала. Там, где маленькая березка. Копал и не знал, что придумать, что сказать, если ничего не найду.
"Ну, – думаю, – Пусть здесь тогда будет забава для туристов. Скажу, что именно тут был клад – мол, подходящее место и кто-то видел, как именно тут папоротник цвел".
– Мухтар, что ты говоришь?! Для меня там теперь навсегда – священное место. А ты собрался устроить балаган…
– Постой! Я нашел ее…
– Там? – ахнула я
– Даже остатки того платья с кружевами. Помнишь, ты сказала, что на ней было светлое платье с кружевами… Коса…
Теперь там такое! Прибежал директор музея. Вызвали милицию. Но это она, она! Нет никаких сомнений. Значит, она действительно позвала тебя.
– И слушай, что самое простое, – продолжал Мухтар, – как она оказалась там. Ее расстреляли ночью, и хотели скрыть и это, и место, где закопали ее. А там – в стороне от замка, в лесу, куда немногие заходят, там в чаще – единственное место, где расступаются деревья и падает лунный свет. Просто видно… где копать.
– Я ведь ее так и видела – свет луны среди полной тьмы. И она была ко мне спиной, так что я видела косу, а потом медленно стала поворачиваться лицом. Но это было так жутко…
– Маля, возле нее лежало это. Может быть, выпало из руки или сорвали и не заметили.
Мухтар подал мне крест с обрывком золотой цепочки. Он был украшен камнями… бриллиантами. Но чувства сейчас влеклись не к драгоценностям, а к скорбящему на кресте Господу.
– Это видел только я. И принес. Потому что ты должна рассудить, как поступить.
Я задумалась, держа крест на ладони. Он согревался от ее тепла.
– Жаль, что его нельзя похоронить с ней. Ведь ее, верно, здесь же и похоронят. Но такую ценность никто не даст зарыть, хотя – это последнее, что у нее осталось. Ее крест.
В лучшем случае его положат под стекло в музее. А не ровен час, его кто-то оттуда свистнет. И вообще ему там не место. Знаешь что… давай-ка отдадим его в монастырь. Матушке Евдокии. Пусть молятся за бедную Веру.
…Графиню Веру похоронили только осенью – надо же было дать работу разным комиссиям, над очевидным спустя время глубокомысленно подтверждавшим – да… это она.
Погребли ее не в том страшном месте, а на фамильном кладбище. Народу было довольно много – приехали из области. Об этом мне рассказали – я сама не была.
Я не сомневалась, и неприятно было, что могила Веры станет частью музейной экспозиции и сюда будут водить праздные, ждущие новых развлечений толпы.
Гораздо отраднее было то, что церемония все же сопровождалась отпеванием, а на месте расстрела духовенством решено было воздвигнуть часовню. В память всех, кто безвинно погиб здесь в те годы.
Растрогала и мать Евдокия, принявшая крест со слезами на глазах и прижавшая меня к себе.
– Ксеньюшка, может, пойдешь к нам в монастырь, а, Ксеньюшка? – повторяла она мое крещеное имя.
Я не ушла в монастырь, но я буду здесь.
Через несколько дней после тех летних событий наступил мой день рождения.
Об этом не знал никто, кроме меня и Мухтара, и гостей не предвиделось. Я собиралась испечь пирог, а из подарков ждала разве что… букета цветов.
Мухтар же подвел к крыльцу коня. Почти белого. Только вдоль шеи и на стройных ногах шла россыпь темно-серых пятен.
Конь был под седлом и шел так спокойно, что было ясно – он абсолютно послушен. Впрочем, Мухтара слушались и признавали за старшего все животные, которых я видела.
Я думала, что он хочет предложить мне прогулку, и радостно встала навстречу.
– Это тебе, – сказал он.
Он знал, что мне некуда увезти коня, что без его, Мухтара, помощи, мне и в седло не подняться…
Конь этот был лучшим, что у него имелось. Купленный далеко и задорого – до того я видела его лишь несколько раз.
Это был не подарок. Это был вопрос – что же дальше с нами?
Я не спрашивала до сих пор. И, предчувствуя, все же не знала… Теперь я могла медленно, очень медленно сойти с крыльца.
И пойти к нему.
Оставьте свой отзыв
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru








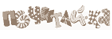


Замечательно!
🙂 Наталия права…..
Великолепно!
По-человечески теплый, бесхитростный рассказ. Умеренная сюжетная сентиментальность оставляет в душе легкий приятный след.
Одним словом — хорошо!
PS.»…вода в шумной и быстрой речке в марте была еще ледяной…»
Наверно — » в мае». Но это так… Ни в коем случае не занудство.
Успехов
Сильно извиняюсь, конечно же май, а не март… опечатка
1