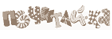Мытная улица
 Метро выплюнуло меня вместе с родителями из приятной прохлады на раскалённую сковородку Октябрьской площади. Мы перешли по подземному переходу Ленинский проспект и оказались в самом начале Мытной улицы. Здесь было немного прохладнее: когда мы свернули на нее, то увидели, что впереди нас метров на двадцать шла поливальная машина, кусты и липы вдоль улицы благоухали свежестью.
Метро выплюнуло меня вместе с родителями из приятной прохлады на раскалённую сковородку Октябрьской площади. Мы перешли по подземному переходу Ленинский проспект и оказались в самом начале Мытной улицы. Здесь было немного прохладнее: когда мы свернули на нее, то увидели, что впереди нас метров на двадцать шла поливальная машина, кусты и липы вдоль улицы благоухали свежестью.Навстречу нам ехал крутолобый сиренево-светло-жёлтый троллейбус «десятка», его шустро обгоняли 407-е Москвичи-такси, неторопливо ехали серые и кремовые Победы, похожие на майских жуков, вальяжные 21-е Волги везли своих важных пассажиров.
Родители везли меня в Морозовскую больницу на операцию. Несмотря на жару, по спине у меня бежали мурашки, а ладони делались всё мокрее по мере приближения к воротам больницы.
Мама шествовала впереди нас папой под китайским зонтиком, рёбра которого были из тоненького полированного бамбука, а сам он был из рисовой бумаги, расписанной цветами шиповника и какими-то иероглифами. На счастье и удачу, объяснил нам папа, привезший этот зонтик из Паланги с очередного рейса.
На маминых ногах красовались изящные босоножки на настоящей пробке, обхватывающие её тоненькие лодыжки шёлковыми ленточками в тон платью последнего фасона. Мама моя была жУУУткая модница…
"Вот вырасту, куплю себе точно такие же. И зонтик…"
Мы шли с папой сзади и любовались нашей мамой. Папа был в летней лётной форме и офицерской фуражке, а я в национальном литовском костюме с накрахмаленной нижней юбкой. Шедший навстречу народ оглядывался нам вслед…
Папа остановился и раскрыл свою ладонь.
– Ируся, что с тобой?
– Ничего…
– У тебя вся ладонь мокрая… Ты боишься?
– Не-а, – соврала я.
Папа взял меня на руки, и я вцепилась в его шею так, что оторвать меня было невозможно.
Ночь накануне госпитализации я не спала. Не знаю, почему… В больнице я уже лежала. В августе перед первым классом мне удаляли гланды… Но тогда мне было всего семь лет. А сейчас, жарким летом 1964, мне почти одиннадцать. Правда, росту маловато.
Через две недели в этой Морозовской больнице меня должны были избавить от косоглазия. От прозвища «очкарик» и прочих сопутствующих «приятных вещей».
Но оставалась Марина, моя подружка, страдающая тем же недугом, но не нашедшая поддержки в своей семье.
Моя мама всё написала для Маринкиных родителей. Но лучше бы она этого не делала.
Мы познакомились с Маринкой в первом классе, хотя и жили в одном доме, только в разных подъездах. Правда, Марина с родителями и старшей сестрой Тоней жила в отдельной однокомнатной квартире.
Первый раз в гости к Маринке я попала, уже учась в третьем классе, когда наотрез отказалась ходить на продлёнку, и со мной стала сидеть моя бабуля Натали. И это были ВПЕЧАТЛЕНИЯ! Поскольку одна я в гостях ещё ни у кого не бывала.
Меня поразил беспорядок, творившейся в Маринкиной квартире. Посреди комнаты стояла «вечная» гладильная доска, сколоченная главой семейства. Я удивилась, если есть утюг, то почему у Маринки всегда такие мятые вещи.
Разгадка оказалась настолько простой, что я и не додумалась бы ни за что.
Крикнув мне, чтобы вешала пальто, Марина прошлёпала прямо в сапогах по паркету со словами: «Ой, скорее бельё надо в шкаф убрать, а то Тонька гулять не пустит».
Она открыла платяной шкаф и стала кое-как запихивать туда аккуратно сложенные стопки белья, превращая их в скомканные тряпки.
Маринина мама была болезненной женщиной, или очень умело притворялась таковой, но она не работала и по дому тоже ничего не делала. Даже чайник не поднимала, звала кого-нибудь.
Крошечная кухня была забита немытой посудой, тазами с бельём и вечно кипящим ведром на газовой плите. Папа, ведающий в доме стиркой, не признавал стиральных машин, кипятил бельё и просто потом его прополаскивал. Обязанностью Антонины было бельё погладить и убрать. Но убирала Марина: сестра выставила ей условие – убираешь, идёшь гулять.
Уроки девочки делали по очереди на кусочке кухонного стола, свободном от посуды. Книжки их были сложены двумя стопками в углу комнаты за старой швейной машинкой "Зингер", доставшейся при делёжке бабкиного наследства.
Шить никто не умел, но зато это была самая дорогая вещь в наследстве, и за неё пришлось повоевать с роднёй.
В свою очередь Марина, попав в гости ко мне, была потрясена тем, что даже в одной комнате у меня было своё место для занятий, висел чешский секретер и стоял небольшой шкаф для книг и игрушек. Никакая одежда не валялась по стульям, а стол был накрыт крахмальной скатертью. Паркет был натёрт до блеска, а на ножках всех стульев приклеены войлочные пластиночки, чтобы не царапать пол. Штора на окне висела складочка к складочке, а не напоминала тряпку, о которую можно даже вытереть руки. Кровать была застелена красивым покрывалом.
Пройдя на цыпочках по комнате, как раз на это красивое покрывало и уселась по своему обычаю бесцеремонная Маринка. Я охнула и прижала руки к щекам: «Вставай, вставай скорей. Мама не разрешает сидеть на кровати. Иди, садись на тахту. Я покажу тебе свои игрушки и рисунки».
Марина встала, пожав плечами, даже не удосужившись поправить смятое покрывало.
Лучшие рисунки были развешаны над моей тахтой. Папа сделал для них тоненькие рамочки со специальными петельками. Я занималась в изостудии, поэтому рисунки мои были очень разными. Здесь были и натюрморты, написанные акварелью, и гипсовые головы статуй, выполненные карандашом, и орнаменты на свободную тему, написанные яркой гуашью.
Маринка, не снимая тапочек, влезла на тахту.
– Это кто? – она ткнула пальцем в нарисованную гипсовую голову. Не успела я охнуть, Маринка ткнула пальцем в гуашевый орнамент. Палец стал оранжевым от гуаши. Она удивлённо посмотрела на вымазанный палец, вытерла его о спинку тахты.
– Рисунки не трогают руками, пожалуйста! – я умоляюще посмотрела на Марину, – И, пожалуйста, слезь с тахты, мама меня будет ругать!
Но слезть девочка не успела, открылась дверь, и вошла моя мама.
– У нас в доме не встают ногами в тапочках на диван, – строго сказала мама. Марина спрыгнула с дивана, даже не извинившись за опущенную оплошность. – Ира, проводи подругу, тебе пора заниматься гимнастикой для глаз.
Меня готовили к операции. В июле подходила очередь на госпитализацию в Морозовскую больницу. Марина была удивлена, что моим глазам родители уделяют столько внимания. Саму её только заставляли время от времени протирать очки и раз в год водили к глазному врачу, как было положено, так как она тоже состояла на учёте по косоглазию.
Особенно удивляло Маринку то, что мой папа аккуратно над пламенем свечи выгибал заушники очков, чтобы они мне не натирали нежную кожу за ушами. Попросив об этом своих родителей, девочка получила отказ – мол, нечего на разных «барынек» равняться. А почему это я – барынька?
Плача в подушку после отказа, девочка решила, что когда-нибудь отомстит мне. Разрабатывая различные планы мести и размазывая слёзы по щекам. Она всегда плакала под подушкой, иначе Антонина засмеёт. А это невыносимо…
В операционной все было так ослепительно бело, что я зажмурилась.
«Раскрывай, раскрывай скорее свои глазки!»– ласково сказал хирург Виктор Петрович, с которым я познакомилась ещё в приёмном покое. Он обещал, что не будет больно, и шов будет косметическим. Доктор недавно вернулся из Одессы, где находился тогда всемирно известный центр глазных болезней.
Меня накрыли белой крахмальной простынёй, на лицо положили марлевый лоскут со специальным вырезом для оперируемого глаза. Как только вставили распорку, чтобы глаз не закрывался, сразу же включились бестеневые операционные лампы. Стало так светло, что я перестала видеть открытым глазом. Операционная сестра сделала три обезболивающих укола вокруг глаза.
Доктор Виктор Петрович, был, по-видимому, добрейшей души человек. Он щебетал, колдуя над моим глазом, делал мне комплименты за храбрость, даже почесал вспотевший под марлевой накладкой нос. От его щебетанья меня стало клонить в сон, и я не могла понять, то ли это начинает действовать укол люминала, который палатная сестра сделала ей ещё за час до операции, то ли доктор действует как гипноз. Мысленно я назвала его Кот-Баюн.
Очнулась я уже в палате и даже испугалась, потому что не могла понять, какое время суток – глаза были забинтованы.
«Проснулась?» – ласково спросила женщина, лежавшая в палате вместе с восьмимесячным сыном. Простая деревенская, но удивительно интеллигентная женщина, Катюша. Лет ей было 25-27. Больной мальчик был её вторым ребёнком. У него была злокачественная опухоль глазного яблока, и доктора ничего ей не обещали. Единственное, на что она могла надеяться, так это просто на то, что сын будет одноглазым инвалидом. Катюша помогла мне сесть, налила соку и погладила по руке: «Ты всю ночь уж проспала, сейчас завтрак будет, я тебе принесу. Потом перевязка. А вечером родители твои придут. Я с ними вчера разговаривала». И поцеловала меня в лоб.
Много лет спустя я часто буду вспоминать эту простую добрую женщину и в молитвах желать ей здоровья, если она ещё жива.
Доктор вихрем влетел в палату после завтрака. Сразу стало шумно и весело.
«Катюша, готовься к выписке, Петька твой жить будет. А через год я тебя открыткой вызову, импортный глаз поставим, никто не отличит! Ирочка, девочка, вставай, пошли на перевязку, красавица ты моя!»
В перевязочной пахло эфиром и медицинским клеем. Сестра осторожно сняла повязку с Моей головы. Я зажмурилась. Доктор внимательно осмотрел шов, остался доволен и велел заклеить оба глаза марлевыми накладками, чтобы закрепить результат операции.
Вечером, как и обещала Катя, пришли родители. Они уже пообщались с хирургом, знали, что операция прошла успешно, и надо лишь немного походить с забинтованными глазами. Мама спросила, не против ли я, если меня придёт проведать Марина.
Я обрадовалась, потому что уже соскучилась по друзьям, особенно по дачным, Таганьковским, тем более что на улице стояла чудесная июльская погода. Иногда, на ощупь, пока не видела нянька, следившая за нами, я, стараясь не споткнуться и не поранить забинтованные глаза, подбиралась к плотному дощатому больничному забору и просто прикладывала к нему ухо, чтобы услышать, что там творится на улице. Случайно я нащупала дырочку от высохшего и выпавшего сучка. Я просовывала свой мизинец на улицу и говорила себе: «Вот и мой пальчик на свободе...» И чувствовала, что нижний край моего бинта начинает предательски намокать от слёз.
Марина появилась на следующий день. Одна. Её самостоятельность в передвижении по большому городу удивляла и пугала не только меня. Но только не её собственных родителей.
Я вместе с другими детьми сидела в тенистой беседке, потому что ходить не могла – на глазах была повязка, и можно было свалиться на ровном месте. К тому же для заживающего шва необходим покой. В этом корпусе лечились дети от полугодовалых и до шестнадцатилетних. Все они чинно сидели на лавочках и слушали, что читала им няня.
Няня любила журнал «Огонёк». Она прочитывала детям всё от первой буквы до последней точки. И пересказывала, что она видела на цветных вкладках, не забывая давать свой комментарий. В читаемом в тот день номере была репродукция картины «Иван-Царевич на сером волке».
Няня вещала разомлевшим, несмотря на тенистую беседку, детям: «Волк был очень сыт, поэтому он решил не есть царевича, а предложил ему свою помощь».
Пришедшая навестить подружку Марина, в отличие от волка, не была сытой. Антонина не отпускала её гулять, пока та не уберёт бельё, и девочка улизнула потихоньку, пока старшая сестра разогревала обед. В животе кишки уже пели свою песню. Им даже не помог пирог с капустой за 5 копеек, купленный Маришкой у выхода метро «Октябрьская».
Я сидела недалеко от выхода из беседки. В руках у меня был флакон с розовой водой и тампон, которым я тщательно протирала шею, а также кожу на груди и спине, насколько доставала моя рука. Взяв новый тампон, я стала протирать лицо, по которому изредка стекали капельки пота из-под бинта, закрывавшего лоб и глаза.
«Это ты зачем делаешь?» – спросила Марина, плюхнувшаяся на скамейку рядом со мной. Она хотела напугать незрячую подругу, но я узнала её по шагам и очень обрадовалась.
– Бабушка велела протирать. Могут пойти прыщи, а после них останутся оспинки. Это некрасиво. Такая жара, а нам нельзя даже в душ, можно бинты намочить.
Марина пожала плечами. Она только что, по дороге от метро, расчесала грязной масляной от пирога рукой здоровенный прыщ от потницы на шее под волосами. Она потрогала его, – на шее был приличный бугорок засохшей лимфы с кровью.
«И долго тебе так ходить?» – Марина с завистью ткнула пальцем в повязку, оставляя на ней грязный жирный след от пальца.
– Не-а, – шепеляво ответила я. У меня во рту был приятно солёненький кусочек твёрдокопчёной любительской колбасы, которую я обожала сосать и потихоньку жевать. О жвачках тогда ещё и не мечтали.
Марина засмеялась такой шепелявости.
– Хочешь? – я протянула ей пакет с кусочками колбасы, заботливо завёрнутыми мамой в фольгу.
– Ага, – глотая слюну, выпалила девочка и, пользуясь незрячестью подруги, уполовинила пакет.
Нянька, видевшая это, неодобрительно покачала головой. Маринка показала ей язык. Такую колбасу у них в доме покупали только на Новый Год и 7-ое ноября.
С Маринкой мы увиделись только в сентябре, да и то ненадолго. Мои родители наконец-то накопили на "двушку", и под ноябрьские праздники мы переехали в новую квартиру. А после праздников я пошла в другую школу.
Лето… Лето… Капризное московское лето. Хорошо хоть на территории нашей больницы много зелени. Окна моего кабинета выходят на Мытную. Деревянный забор давно уже заменили на красивый ажурный металлический. И едут по Мытной сплошные иномарки…
– Можно? – ко мне в кабинет заглянула секретарша.
– Заходи, Танюша.
– Ирина Сергеевна, там к вам какая-то женщина на проходной. Вот, визитку передала.
Я взяла визитку. Строительная компания «Мари ша», финансовый директор Коростылёва Марина Николаевна. Санкт-Петербург. Васильевский остров.
– А что ей нужно?
– Говорит, школьная подруга.
Что-то мелькнуло у меня в памяти. Но Питер?
– Пусть проводят, Танечка!
В кабинет вошла ухоженная стильно одетая женщина в тёмных очках.
– Не узнала?
– Маришка, ты?! Какими судьбами, и почему Питер?
– Замуж туда вышла.
– А не позвонила почему ни разу?
– Злая была. И радовалась, что ты из класса ушла. Я бы одна такая осталась.
Я нажала кнопку селектора: «Танюша, нам чайку и конфет, пожалуйста!»
– Я смотрю, ты – профессор, зав отделением. А это кто? – Маришка взяла фото со стола.
– А это мой учитель, Виктор Петрович, Царствие ему Небесное.
– Это тот, который тебя оперировал? Сама-то оперируешь?
– Ага… Только реже теперь. Молодёжь учу. А ты что всё очки не снимаешь?
– Зеркало большое есть?
Я подошла к шкафу-купе и отодвинула дверь.
Маринка встала рядом, обняла меня и сняла очки. Никакого косоглазия у неё не было.
Мы обнялись и стали хохотать. А из зеркала на нас смотрели с удивлением две конопатые девчушки-очкарики…
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru