Африка

Мне говорят, я странный человек. Готов поверить. Ко мне цепляются книжные фразы. Я могу часами повторять: «В этой Африке сейчас жарища» или «Дело надо делать, господа!» Далась мне эта Африка? Помещик Троекуров, помнится, пел «Гром победы раздавайся!», а наш конюх Пантелей «Во субботу».
За окнами сугробов намело, извозчики вязнут, а я твержу, твержу: «В этой Африке…»
- Семен!
- Ась?
- Печку истопи.
Голландка не топлена, вот и Африка.
Добро ли в нашем Питербурхе с нетопленой печью?
Время моё вышло, а я сижу и медлю перед клочком бумаги. Надобно ведь что-то написать в оправданье.
«Милейший Петр Африканыч…» Тьфу ты, чёрт! Чёрт!..
Не дописав начатого, я взял трость, выигранную давеча в карты у Свенцицкого, и вышел из дому. День был в разгаре. Возы с сеном, дровами медленно тянулись от Громовской лесной биржи по Кавалергардской к Суворовскому. Мужики покрикивали на лошадей. Лохматые дворники кашляли в рукавицы. От скрежета лопат у меня лопались перепонки. Я разминулся с подозрительно посмотревшим на меня городовым, юркнул в подворотню, где было тихо, и вышел к Преображенским казармам. Свенцицкий, на мою беду, оказался в карауле, и мне ничего не оставалось делать, как, испросив чернил, написать ему короткую записку.
- Сюда, пожалуйте, - любезно предложил дежурный офицер, видя, что я устраиваюсь на подоконнике.
- Благодарствуйте, мне удобно.
Однако, что писать? «Друг мой, Петр! - начал я, благополучно избежав «Африканыча». – Ты получишь моё письмо, когда я буду уж далече. Не бранись! Что ни делается, к лучшему. Отпиши матушке. Женщина она добрая, и любит тебя, как сына. Слова найдёшь. Долги мои оплати имуществом. Семен подскажет. Там немного: яхонтовая папенькина табакерка, шкатулка черного дерева, возьми её, она тебе нравилась, да часы. Коли не хватит, сделай милость, добавь. Дело моё решенное. Сей узел пора рубить – развязывать поздно». Я всхлипнул от нахлынувших чувств. Вытер слезу. Торопливо приписал: «Прощай, брат!» - и, вынув из внутреннего кармана приготовленный на этот случай конверт, запечатал записку именной сургучной печатью.
- Что сказать? От кого? – негромко спросил дежурный.
- Скажите…. Впрочем, не стоит. Он знает.
- Как будет угодно, - с любопытством посмотрел на меня офицер. – Холодно. Второй день снег.
- Что? Ах, да, метель. Позвольте откланяться, - я взялся за шляпу. – Могу я быть уверен?..
- Без сомнения.
Вот и славно.
Проплутав дворами, я вышел на Знаменскую. На башне Николаевского вокзала пробило три пополудни. В запасе у меня три часа. Прекратившийся снегопад возобновился с новой силой. Дома и фонари затянуло пеленою. Я озяб и, не зная, куда себя деть, ткнулся в дверь ближайшей пивной. Заведение показалось знакомым: просторная комната с изразцовой печью, деревянные выскобленные столы, буфетная стойка с ведёрным самоваром. Кликнув полового, я велел принести себе «Чёрного бархатного», копченой рыбы с картофелем и дешевую пачку папирос «НарзанЪ» габаевской фабрики. Мне мучительно хотелось курить, но тратиться на дорогой табак в сложившейся ситуации было глупо.
- Каперсов не желаете? – интимно шепнул подошедший буфетчик.
Я отшатнулся:
- Благодарю.
Судьба моя висела на волоске. До каперсов ли мне было? Однако ж рыбу я ел с аппетитом, дрожа и обтирая жирные пальцы о салфетку. Пил, смакуя, и курил – с наслаждением. Странно устроен человек! Закутанный в клетчатый плед посетитель уставился печальными глазами в мою тарелку, спросил: «Что рыба, свежа ли?» - и, не дождавшись ответа, негромко распорядился:
- Человек, леща! Не скоротаем вместе непогоду, ваше благородие? – виновато осведомился он, взявшись за спинку венского стула. Сосульки свисали с его бороды и таяли, оставляя на полу крохотные лужицы.
- Не угодно ль за другой стол? – пробормотал я, задыхаясь от злости.
Я хотел скандала - глупого, громкого, такого, о котором в завтрашних газетах в довершение главного было бы пропечатано: «Инцидент в…», - и не имел для него сил!
Нервы мои были на пределе.
- Увольте бога ради.
Вид мой и голос произвели впечатление. Одинокий «клетчатый» господин, бормоча: «Воля ваша», - отстал, но мысли мои сбились бесповоротно. Что если б пропечатали? Инцидент - где? Как называется сия обитель, приют разбитых одиноких сердец? «Анерис», - прочел я слева направо затейливую надпись на заставленном геранями окне. Злость улетучилась. Сердце застучало тише. Я обмяк и успокоился: свершилось! Мистик и фаталист, я ждал знака – и получил его. «Анерис»! – был голос мне из преисподней. Сирена наоборот. Серебряная сирена на запотевшем стекле! Пивная «Сирена». Значит, судьба. Значит, пропечатают. Коллежские регистраторы в тужурках с бархатными петлицами на воротниках станут выхватывать друг у друга газеты, смеяться и смаковать. Осталось три часа. Господи, помоги моему растревоженному сердцу в эти роковые для него минуты!
- Позвольте чернил?
- Сей секунд, - поклонился юркий половой.
«Милая маменька!» – начал я, точно зная, что отсылать письма не стану - мне достаточно скудных строк, адресованных Свенцицкому. «Милая маменька!» - сквозь туман памяти ко мне выплыло наше скромное тверское имение. Дом с мезонином, бревенчатый флигель, окруженный ракитами, и сад. В тот год он цвел особенно пышно. Кривая яблоня, которую хотели корчевать, посаженная, по преданию, дедом моим, Арсением Боташевым, и та распустила почки на корявых ветвях. Маменька командовала. Конюх Пантелей обрезал ветки. Мы со Свенцицким, бывшим в отпуске по здоровью, складывали их в рогатую кучу и поджигали. От костров стлался синий дым. Пели иволги. В ракитовых кустах заливались соловьи. Кипы цветущих деревьев испускали пьянящий аромат. Пахло сыростью, растущей травой, горластыми лягушками и зелёной ряской. Мы были молоды и мечтали о славе. Читали модных философов, спорили о Соловьёве, Арцыбашеве. Писали неуклюжие пьески в духе Ибсена, отсылали их в столичные журналы в надежде проснуться знаменитыми.
Имение тётки Свенцицкого, Варвары Александровны Стригиной, находилось в семи верстах от нашего. С Петром мы дружили, несмотря на укоренившуюся взаимную неприязнь его тётки и маменьки. Меж дамами была стена - но бог с ней! Повзрослев, мы решили, что дело в разности характеров. Певунья Варвара Александровна всегда была весела, маменька – молчалива и набожна.
Однако ж надо сказать о нашем семействе. Судьба моих родственников по мужской линии была трагична. Поговаривали о «родовом проклятии», в которое я не слишком-то верил, но о котором помнил. Дед Арсений погиб на охоте. Сказывали, застрелился из-за женщины. Впрочем, Свенцицкий уверял, что сплетни. Папенька, надворный советник Иван Арсеньевич Боташев, управляющий Нижнетагильских заводов, утонул, переправляясь через бурную Баранчу, когда мне было семь лет от роду. Ходили слухи, утопился по причине неразделенной любви. Брат отца не оставил нас своими заботами, определив меня по окончании гимназии сначала в Горный институт, затем мелким чиновником в горное ведомство, в коем я дослужился до губернского секретаря.
Карьер мой был обеспечен!
«Клетчатый» посетитель заспорил с буфетчиком.
Послышались крики, звон разбитой посуды.
Я оторвался дум…
Перо моё засохло, как и несбывшийся «карьер»: прослужив пять лет, я продолжал марать бумагу, обивать пороги театров, дневать и ночевать на галёрках, слать восторженные письма актрисам - самой Комиссаржевской! – и мечтать о пьесе, которая «всё объяснит». О «Чайке»! Я был на её провальной премьере в Александринском. Слышал шиканья, смех. Плакал, воображал себя Треплевым, не подозревая о будущем сходстве наших судеб. В театрах ко мне привыкли и стали звать «подающим надежды».
Если бы не соловьи в ракитовых кустах!.. Впрочем, я не жалею.
- Мишель, - сказал однажды Свенцицкий, накинув на плечи мундир. Утро было прохладным. Мы лениво рыбачили, вполглаза поглядывая на раскрашенные поплавки. – Нынче приезжает Тася. Милости просим к нам. Варвара Александровна приглашает.
- Кто это - Тася?.. Прости, забыл.
- Сводная сестра.
Ах, да! Мать Свенцицкого, Катерина Александровна, вышла замуж за вдовца с двумя дочерьми, которых ни Петр, ни, тем более, я никогда не видели. Девочки воспитывались у бабушки. Похоронив сестру, Варвара Александровна решила во что бы то ни стало «подружить» их с братом, и вот – Тася…
Имя мне нравилось. Оно было сладким, податливым, как молочная тянучка. Причесываясь, я гадал, какой окажется его владелица? Наверняка пышнотелой красавицей с плавными замедленными движениями. Сколько ей? Двадцать семь? Тогда засохшей мымрой-перестарком. Мне было весело – я подавал надежды. На столе кабинета лежала новая пьеса, за окнами – цвел старый сад, а в кустах звенели соловьи…
- Какой вы смешной! – всплеснула она руками. – У вас борода, как у Дон Кихота. Меня Тасей зовут, а вас?
- Михаил Иванович Боташов-с, - щелкнув каблуками, рекомендовался я.
- Да что же это? Вам совсем не идет «Михаил Иваныч»! – она обвела собравшихся удивлённым взглядом, словно ища поддержки. – Я стану звать вас… Доном! Просто Доном. Не спорьте!
Я и не думал спорить. До споров ли мне было? Я влюбился «на бороде». На «Дон Кихоте» в моём сердце разгорелся пожар. Целая Африка! Человек спокойный и сдержанный, я трепетал. Грудь моя вздымалась. Я будто увидел другую светлую жизнь, в которой возможно счастье. Как невыносимо скучны, как глупы показались мне мои горная служба и пьеса с вымученными диалогами! Как фальшивы прежние любови и заурядны друзья!
Тася оказалась лёгкой, порывистой. Она смеялась, отбрасывая волосы родным знакомым жестом. Была серьезна, и на лбу у неё появлялась крохотная складочка. Собирала дельфиниумы в саду. Я носил за ней кобальтовые японские вазы. Вид у меня был полоумный.
- Мишель, - укоризненно качала головой Варвара Александровна.
После ужина Тася запела «Каста дива», и в глазах моих появились слёзы. Все мелкое, суетное вдруг отступило, внутренний жар, клокотавший в груди, вознёс меня на такую высоту, которой я прежде не знал. «Почему нельзя всю жизнь - так?!» - плакало моё разбитое сердце. Свенцицкий успел рассказать, что Тася замужем, у неё ребенок, который живет у сестры. Она ушла от мужа-тирана, и теперь учится пению у самого Эверади.
- Кто это? - машинально осведомился я.
Свенцицкий пожал плечами:
- Бог знает! Говорят, оперное светило. Он называет её сиреной.
- Полуженщиной-полуптицей, завлекающей волшебным голосом в гибельные места? Что ж, так и есть.
- Мишель, позволь, как другу…
Я остановил его:
- Поздно.
Было поздно. Ночные соловьи отпели, и приступили утренние. Мы бродили по колено в росе. Мокрое платье липло к Тасиным ногам. Я придерживал шаль, повторяя: «Вы простудитесь, вам нельзя». Бледные ночные бабочки кружились над нашими головами. В сырой траве стрекотали кузнечики. «Милый Дон, почему нельзя всю жизнь - так?! - она повернула ко мне своё прекрасное лицо. – Так высоко и чисто? Без грязи, пошлости, без зависти и злобы? Почему, Дон?! У меня талант. Я хочу петь! Я не могу больше, не могу…» Она заплакала, я вместе с ней: «Почему - нельзя?!»
Муж не давал развода. Угрожал отобрать сына. Не было денег и минимального достатка, чтобы платить за уроки и квартиру. «Она погибнет», - думал я, стоя под ракитами, и сгоряча поклялся, что «вместе со мной». Всем сердцем, всем своим существом ощущал я кровное с ней родство, как будто мы были одним целым. Как будто страдали, не зная друг друга, и, наконец, соединились. Я чувствовал боль облегчения. Мною владел тот гибельный восторг, о котором я прежде читал в толстых романах. Печать «родового проклятия» - ранней смерти из-за любви – легла на меня, и я принял её с покорной благодарностью.
Пусть так!
Чувствовала ли она подобное? Бог весть.
Часы в пивной «Сирена» пробили половину шестого.
Я вздрогнул: вот теперь пора. Пока доберусь, будет семь.
- Рассчитайте.
- С вас полтина-с, - половой изогнулся, сверкнув нахальным глазом. – Двенадцать копеек-с папиросы. Две пачки издержали, ваше благородие.
Я, молча, хлопнул дверью. На улице по-прежнему мело. Снег устилал карнизы, крыши домов и полицейские будки. Качались фонари. Гремели припозднившиеся обозы. Пройдя два шага, я оглянулся на заведение, в которое меня по непонятно, чьей воле, привела сегодня судьба, прочел на морозном стекле: «Сирена», - постоял бездумно секунду и двинулся сквозь скрипучие сумерки к конке.
Усталые лошади медленно тащились по Садовой. Я опоздаю к первому акту – не страшно. Мне важно успеть к финалу. Сегодня в Мариинском премьера. В главной партии моя Тася. Неделю назад она сказала, что между нами всё кончено, и съехала, не оставив адреса: она не может разрываться между мной и музыкой.
- Милый Дон, нельзя служить двум богам. Я или мать и жена – или артистка, - она смотрела на меня виновато.
Мы столько пережили вместе: её падения и взлёты, мои…
- Ты не любишь меня.
- Не начинай! Пойми, я должна сделать выбор.
- Как же я? Что будет со мной?! - голос мой пресекся, я закрыл глаза в ожидании приговора. Если она скажет: «Ты ещё молод и встретишь своё счастье», - я погибну! Продолжу традицию. Мне некуда отступать.
- Динь-Дончик, ты ещё молод….
В моем кармане пистолет.
Глупо, но я хочу, чтоб она видела.
Публика гудела, блестела фальшивыми брильянтами.
- Виолетта была сегодня бесподобна! Ах, я обожаю «Травиату»!
- Господа, у этой Боташевой большое будущее!
- Помилуйте, давно ли на подпевках стояла? Но нынче! Как натурально умирала! Мон шер, у меня слёзы на глазах…
- Талант, талант!..
- Михаил Иванович! Вы тут! – отчаянно закричал антрепренер, продираясь ко мне сквозь толпу. – Насилу нашел. Скорей! Таисия Африкановна требуют-с! Да что ж вы, голубчик?! Плачут-с, не могут играть. Господи, у нас третий акт!..
- Вы перепутали, - я был холоден, как сталь. – Мы расстались. Таисия Африкановна… не могла.
- Мишенька! – она бросилась мне на грудь. – Ты простишь?! Скажи, простишь? Я не могу без тебя. Простишь, Мишенька?..
Дьявольское искушение овладело мной! Достать револьвер – и выстрелить. Убить её и себя. Сейчас, не медля. Если нельзя вместе «всю жизнь», будем вместе «всю смерть»! Знаки сошлись. Я должен следовать судьбе!
- Я умирала сейчас – там, на сцене. Как Виолетта в синих фиалках. Ты слышишь, Мишенька? – она теребила пуговицы моей тужурки. Растрепанные волосы плескались по плечам. – Помнишь дельфиниумы? О чем я? Да! Умирала. Подумала: вдруг правда умру? Навсегда? Без тебя…. Я не могу без тебя! Ни в жизни, ни в смерти, Мишенька! Я… люблю тебя. Ты ведь простишь, простишь?!
- Третий акт, Таисия Африкановна! – умоляюще прохрипел антрепренер.
В глазах у меня помутилось. Я качнулся. Разжал пальцы, опустил рукоять. Диковато расхохотался:
- Анерис…
- Что с тобой?!
- Ах-ха-ха! Как же я! Я прочел: «Анерис»…
- Милый…
- «Сирена»! Ха-ха!
Виолетта… Бледные незабудки в руках.
«Если наоборот – не сбудется»…
- Ничего, - я помассировал воспаленные бессонницей глаза. – Переволновался, дорогая. У тебя премьера…
Оставьте свой отзыв
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru








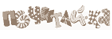


Блестящий по стилю рассказ
Эко славно похрустели французской булкой, сударыня… 🙂
Спасибо.