История любви Вольтера
 Первый скандал, связанный с именем Вольтера (тогда еще, впрочем, не Вольтера, а Франсуа-Мари Аруэ), разразился в 1717 году, когда 24-летнего поэта упрятали за стихи в Бастилию, последний – без малого два с половиной века спустя.
Первый скандал, связанный с именем Вольтера (тогда еще, впрочем, не Вольтера, а Франсуа-Мари Аруэ), разразился в 1717 году, когда 24-летнего поэта упрятали за стихи в Бастилию, последний – без малого два с половиной века спустя. Это был уже 1957 год. Директор Института Вольтера г-н Теодор Бестерман издал в Париже сборник любовных писем человека, изучению жизни и творчества которого посвятил себя.
Но почему эти сокровенные послания всплыли из небытия лишь в середине двадцатого столетия? Известно же, что после смерти Вольтера, дружбы с которым домогались все монархи Европы, его рукописи, равно как и уникальная библиотека, были переданы его племянницей мадам Дени Екатерине II. Российский архив знаменитейшего французского писателя и сейчас один из самых крупных в мире, но отчего в нем не оказалось тех произведших фурор интимных писем? Ведь мадам Дени, единственная наследница своего прославленного дяди, клятвенно уверяла, что передает русской императрице все до последней бумажки.
Наследница обманывала. Наследница утаила письма, но вовсе не затем, чтобы потом выгодно продать их. Напротив, умирая, завещала ни в коем случае не показывать ни одной живой душе! А уж о публикации и речи не могло быть...
В чем дело? О том, что сверхпопулярный драматург и поэт вел отнюдь не монашеский образ жизни, знала не только вся Франция, но и вся Европа. Да он и сам не скрывал этого, особенно – свою связь с маркизой дю Шатле, "божественной Эмилией", как он патетично именовал эту женщину.
Надо сказать, что патетические тона начинали, на удивление многих, звучать в голосе великого насмешника, едва он заводил о ней речь.
"Никогда г-жа дю Шатле не была для меня настолько выше всяких королей", – писал он своему другу в 1741 году. И ему же, два года спустя: "Оставляю на ваше попечение двух великих людей: г-жу дю Шатле и Цезаря".
Под Цезарем подразумевался римский полководец, вернее – его "Записки о галльской войне", а под г-жой дю Шатле – вполне реальная женщина, супруга офицера, проводившего основную часть жизни в гарнизоне, мать двоих детей. Вольтер был ее фактическим мужем более пятнадцати лет, вплоть до ее скоропостижной смерти. Могло ли прийти кому-нибудь в голову, что этот человек, во всеуслышание прославляющий свою подругу, посвятивший ей множество стихов, запечатлевший ее образ в повестях и рассказах, бывал ей неверен? И тем не менее утаенные от зоркого ока Екатерины II любовные письма адресовались отнюдь не г-же дю Шатле.
Следует сказать, что г-жа дю Шатле тоже не была воплощением верности. Ни законному мужу, ни самому Вольтеру, что закончилось для нее трагически. Но это произошло уже на пятнадцатом году их фактического супружества, предшествующие же полтора десятилетия были счастливейшим и плодотворнейшим временем в его – да, кажется, и в ее тоже – жизни.
Любовь началась не с первого взгляда: к их отношениям эта классическая формула неприложима, поскольку "первый взгляд" пришелся на то время, когда Эмилия, избалованная, смышленая и капризная дочь барона Ле Тонелье де Бретей, была еще совсем ребенком.
Барон покровительствовал начинающему литератору, восхищаясь его остроумием, фантазией и неистовым темпераментом, на девочку же знакомый ее отца не производил никакого впечатления. Естественно, не обращал на нее внимания – мужского внимания – и будущий классик; не только в силу возраста юной дамы, но еще и потому, что сердце его было отдано даме другой, шестнадцатилетней Олимпии Дюнуайэ, дочери отца-католика и матери-протестантки. Последнее обстоятельство оказалось весьма существенным, ибо внутрисемейная религиозная распря привела к тому, что мать увезла дочь из Парижа. Увезла подальше от отца и от чрезмерно пылкого молодого человека, к которому ее Олимпия все больше благоволила.
"Прощайте, дорогая моя повелительница; вспоминайте хоть изредка с вашем несчастном возлюбленном, но вспоминайте не ради того, чтобы грустить; берегите свое здоровье, если хотите уберечь мое; главное, будьте очень скрытны; сожгите это мое письмо и все последующие". Олимпия не вняла совету мудрого человека: не была скрытной и писем не сожгла.
Итак, Вольтер не заметил малолетней дочери своего покровителя, а когда спустя полтора десятка лет снова увидел ее, она была уже замужем, имела двоих детей (третий умер, едва родившись), но дом и семейные заботы отнюдь не засосали ее. Она изучая философию и математику, читала в подлиннике Вергилия и Горация, лично ездила верхом (существует: легенда, что встреча, положившая начало их отношениям, произошла ночь, когда маркиза, озаренная светом луны гарцевала на белой лошади) и, главное, замечательно пела.
Вольтер был страстным меломаном. Без сожаления откладывая в сторону философский трактат, политическую филиппику или историческую трагедию, с упоением сочинял оперное либретто. Часами слушал он в исполнении маркизы сложнейшие партии. Но это вечером. А утром она усердно изучала под его руководством английский язык, причем делала такие успехи, что вскоре смогла взяться за перевод Ньютона. "Ясность, точность и изящество отличали ее слог, – писал Вольтер в "Мемуарах". – Рожденная для истины, она... перевела на французский язык всю книгу математических принципов, а впоследствии, укрепив свои познания, добавила к этой книге, понятной очень немногим, алгебраический комментарий, равным образом недоступный рядовому читателю..."
Но об одном автор "Мемуаров" умалчивает: о том, что он и г-жа дю Шатле объяснились в любви тоже по-английски. Равно как и ссорились... Во всяком случае, в присутствии гостей, которые не поленились сохранить для потомков подробности этого необыкновенного союза. "Представьте себе женщину высокую и сухую, с резкими чертами лица и заостренным носом: вот физиономия прекрасной Эмилии, физиономия, которой она так довольна, что не жалеет усилий, заставляя любоваться собой".
Кто пишет это? Разумеется, женщина. Женщины ненавидели ее столь же горячо, как мужчины – Вольтера, раз даже отколоченного по наущению одного из них палками.
"У нее были ужасные ноги и страшные руки, – набрасывает портрет маркизы другая мемуаристка. – Кожа ее была груба, как терка. Словом, она представляла собой идеального швейцарского гвардейца, и совершенно непонятно, как это она заставила Вольтера сказать себе столько любезных слов". Любезных слов – и ей, и о ней – Вольтер сказал действительно много, секрет же прост: внутреннему содержанию он придавал куда больше значения, нежели внешнему облику. В том числе – и своему собственному. Когда, уже на склоне лет философа, маститый французский скульптор Жан Батист Пигаль вознамерился запечатлеть его в объемном портрете, Вольтер написал некой близкой ему даме: "Говорят, месье Пигаль должен приехать, чтобы лепить мое лицо. Но, мадам, нужно, чтобы у меня это лицо имелось. Сейчас трудно угадать, где оно. Глаза ввалились на глубину трех дюймов, щеки похожи на ветхий пергамент, плохо прикрепленный к костям... Последние зубы исчезли".
Но до этого еще далеко. Сейчас он в расцвете сил: и физических – тут, впрочем, расцвет был весьма относительным, хвори одолевали его постоянно, – и духовных. Наконец, завершены и выходят "Философские письма", сразу же объявленные "главной книгой века" и тотчас приговоренные парламентом к сожжению. (Как впоследствии и философская повесть "Кандид".) Вольнодумцу снова угрожает арест, какой уж по счету, и тогда маркиза дю Шатле, с которой он уже тайком встречался в скромном номере парижской гостиницы "Шарон", берет его под свое покровительство.
"Кто любим прекрасной женщиной, – утверждается в "Задиге", другой философской повести, – тот всегда вывернется из беды на этом свете".
Так оно и вышло. "Божественная Эмилия" торжественно пообещала министру, официально именуемому хранителем печати, что отныне из-под пера ее друга не выйдет ничего предосудительного. А если и выйдет, то она лично позаботится о том, чтобы рукопись осталась в столе. Сам же бузотер, не умеющий держать язык за зубами, не будет впредь появляться в парижских салонах, она это гарантирует.
Слово свое маркиза сдержала. Вскорости к дому, где в ожидании ареста коротал дни ее дерзкий и легкомысленный друг, подкатила карета с фамильным гербом дю Шатле, лакей отворил дверцу, автор "главной книги века" прыгнул на сиденье, и его повезли – куда? Далеко, в провинцию Шампань.
Остановилась карета у большого, но запущенного, кое-где даже с выбитыми стеклами, замка. Это было родовое поместье дю Шатле. Вольтер выскакивает, осматривается вокруг и находит, что место, именуемое Сире, великолепно. Поистине рай земной... Он так и величал его впоследствии, но то впоследствии, сейчас же требовалось привести обитель в порядок. Работы предстояло много, очень много, но работы Вольтер не боялся. "Надо возделывать свой сад" – так, вспомним, заканчивается "Кандид", вещь хрестоматийная, и это не пустые слова, не декларация, а выстраданная формула.
На ближайшие недели "садом" Вольтера становится замок Сире. Он нанимает рабочих, благо деньги у него теперь есть, и деньги немалые. (Помимо всего прочего, "властитель дум" проявил себя еще и как блестящий коммерсант.) Довольно скоро дому возвращается былое величие. Зеркало, бронза, красное дерево... Изгнанник спешит – вот-вот должна прибыть "божественная Эмилия"; ее покои обставляются в восточном стиле. Вольтер вообще любил Восток – не зря действие многих его повестей и трагедий происходит именно там... Изгнанник спешит, но "божественная Эмилия" медлит, ее задерживают в Париже какие-то, досадует он, бесконечные дела (между тем главным ее делом была реабилитация ее друга), но терпение никогда не входило в число добродетелей Вольтера. Бросив все, раздосадованный философ уезжает в Бельгию, и тут-то в возрожденном замке появляется собственной персоной г-жа дю Шатле. Вольтер, не умеющий сердиться долго, тем более на женщину, да еще на любимую женщину, немедленно возвращается. О, что то была за встреча! "Минута, когда люди обретают друг друга, и минута, когда расстаются, – две значительные эпохи в жизни человека". Возлюбленные сказали друг другу все, что внушают благородным и страстным сердцам долго скрываемые чувства, нежная любовь и перенесенные бедствия".
"Задиг" создавался в то время, когда пятнадцатилетний роман с маркизой дю Шатле – самый длительный, самый пылкий и глубокий роман Вольтера – приближался исподволь к своей трагической развязке, начало же их отношений отмечено другим произведением, "Орлеанской девственницей", вещью дерзкой, скандальной, почти хулиганской. Ничего удивительного! Вольтер всю свою долгую жизнь только ведь и занимался тем, что шокировал общественное мнение. Написав апологетическую биографию известной куртизанки Нинон де Ланкло и вдобавок воспев ее в одной из своих пьес, он в "Орлеанской девственнице'' представил национальную героиню Франции Жанну д'Арк как фигуру гротескно-пародийную. Но нам не это важно сейчас, нам важно, что ее появлению на страницах поэмы предшествует описание идиллической жизни любовников, которые, поселившись в неком "обольстительном приюте",
К столу приходят прямо от постели.
Там завтрак, чудо поварских изделий.
Дарует чувствам прежнюю их мощь;
Потом налов среди полей и рощ
Их андалусские уносят кони...
Это, если верить свидетельствам современников, да и самому Вольтеру, любившему побродить с ружьем, – не что иное, как описание его тогдашней жизни в Сире. А что описание в стихах, так ведь, как сказано в "Простодушном", тоже входящем в цикл философских повестей, "нет на земле такой страны, где любовь не обращала бы влюбленных в поэтов".
Но в Сире, где, по выражению Вольтера, ради него добровольно "схоронила себя" маркиза дю Шатле, эта столичная львица, занимались не только любовью и стихами. Здесь были оборудованы современные лаборатории, в которых отшельники увлеченно изучали естественные науки. Время от времени научные труды Эмилии появлялись в печати, что приводило в восторг ее друга. В ней все приводило его в восторг... "Маркиза для меня больше, чем отец, брат или сын. У меня только одно желание – жить затерянным в горах Сире".
Горы, однако, не служили препятствием ни для законного мужа маркизы, который периодически наведывался в собственное поместье и был встречаем здесь весьма ласково, в особенности другом его жены, ни для многочисленных гостей, жаждущих хоть краем глаза взглянуть на "короля поэтов, философа народов, Меркурия Европы, оратора отечества, историка суверенов, панегириста героев, верховного судью вкуса, покровителя искусств, благодетеля талантов, ценителя гения, бича всех преследователей, врага фанатиков, защитника угнетенных, отца сирот... опору бедных, бессмертного образца всех наших добродетелей". Так было написано на пухлом конверте, что пришел на местное почтовое отделение. Забыли пустяк: указать имя и фамилию, но письмо без проволочек доставили по назначению.
Другие не удовлетворялись заочным выражением почтения – приезжали сами. Им не отказывали. Хозяин, правда, был скуповат. В его кабинете не имелось даже лишнего стула, дабы гость, упаси Бог, не вздумал присесть и, увлекшись разговором с "самым зажигательным собеседником века", задержаться надолго. Но, выходя к обеду – и обеды давались королевские, – блистал остроумием и любезностью.
И все-таки душою этого волшебного замка оставалась маркиза. Само собой, находились люди, которые осуждали ее за вольный образ жизни, но ее верный рыцарь тотчас бросался на защиту. Шпага, конечно, слушалась его не ахти как, зато к его услугам, не надо забывать, было перо, и уж этим-то оружием он владел в совершенстве.
"Кое-кто из старых недотрог нападает на нее, но она делает больше добра, чем они все вместе, – читаем в рассказе "Мир, каков он есть", где "божественная Эмилия" выведена под именем прекрасной Теони. – Она не допустит ни малейшей несправедливости, даже ради большой выгоды; она дает своему любовнику лишь великодушные советы; она заботится только о его добром имени, а ему стало б стыдно перед нею, упусти он случая сделать добро, ибо ничто так не по двигает на благие дела, как любовница, которая является свидетельницей и судьей твоих поступков и уважение коей ты хочешь заслужить".
Услышав столь щедрую аттестацию, герой рассказа не раздумывая принимает приглашение навестить необыкновенную женщину и, проведя вечер ее доме, соглашается, что все сказанное о ней – чистая правда. "Ее непринужденный ум никого не стеснял; всем нравилась, вовсе не стремясь этому; она была столь же любезна, сколь и добра, а все эти чарующие качества подкреплялись еще и тем, что она была очень хороша собой".
Вот! А злые языки – женские язык – говорили что-то такое про ужасные ноги и кожу грубую, как терка. Мужчины этого не находили. Даже те, кто был намного моложе ее – например, маркиз де Сен-Ламбер, литератор-дилетант и профессиональный военный, которого мэтр представил своей подруге с уверенностью, что та оценит его незаурядные достоинства.
Вольтер не ошибся: г-жа дю Шатле оценила, и оценила высоко. Столь высоко, что автор заполонивших полмира фривольных текстов, которого, казалось, ничто уже не могло удивить, был точно громом поражен, застав своего молодого гостя и "божественную Эмилию" в положении, не оставляющем никаких сомнений о характере их отношений. "Амур, на все затеи скорый", как сказано в "Орлеанской девственнице", сделал исподтишка свое черное дело, а он, "Меркурий Европы", ничегошеньки не заметил.
Вольтер сделал пренеприятнейшее из открытий с изрядным запозданием: маркиза призналась ему, что беременна на третьем месяце, отец же будущего ребенка – их обаятельный гость Сен-Ламбер. Это мигом остудило гнев "отца сирот". Втроем стали мозговать, как быть с будущим младенцем. Решили срочно вызвать из гарнизона мужа, провести с ним соответствующую работу, основная и наиболее пикантная часть которой ложилась, естественно, на "божественную Эмилию", в результате чего тот должен был признать впоследствии, что ребенок его.
Маркиз прибыл незамедлительно. Жена оказала ему внимание, от которого он давно уже отвык Конечно, то была не любовь, а имитация, иллюзия любви, но что с того! "Не надо разрушать блеск, который иллюзия бросает на большую часть вещей", – теоретизировала маркиза в статье "О счастье". Короче говоря, бравый офицер отбыл в полк, чрезвычайно гордый собой.
Гордость возросла, когда через несколько недель он получил известие, что скоро вновь станет отцом – после столь огромного перерыва! Сослуживцы поздравляли...
Готовился к событию и Вольтер, на удивление, легко перенесший измену старой подруги. Старой не в смысле возраста, хотя и возраст, надо признать, был отнюдь не самым оптимальным для деторождения: маркизе перевалило за сорок. Осложнения могли быть тяжелые, "отец сирот" волновался и бдительно следил за ее здоровьем, но г-жа дю Шатле была не единственным предметом его нежной опеки. Еще он очень заботился о своей рано овдовевшей племяннице Мари Луизе, в замужестве Дени. Той самой мадам Дени, которая, став единственной наследницей своего великого дяди, продала его архив Екатерине II, утаив лишь пачечку любовных писем. Они-то и были опубликованы в 1957 году, произведя скандал.
Дело в том, что письма эти были адресованы... самой мадам Дени. И носили характер совсем не родственный. Невооруженным глазом видно, что писал их не столько дядя племяннице, сколько любовник своей пассии. Любовник! "Я три раза подходил к Вашей двери. Вы стучались в мою... В доме с двенадцатью слугами мы тщетно искали друг друга, так и не встретившись. Я в полном отчаянии. Понимаю, что момент разлуки был бы ужасен, но еще ужаснее, что Вы уехали так внезапно, не повидав меня и сразу после того, как мы напрасно ходили друг к другу".
Письмо датировано 1768 годом, но есть письма куда более ранние, с бесспорностью свидетельствующие о том, что Вольтер нарушил верность г-же дю Шатле гораздо раньше, нежели это сделала она. Но "Божественная Эмилия", при все своей наблюдательности, вряд ли заметила что-либо. Этому феномену дано в "Задиге" исчерпывающее объяснение. "Удовлетворенную любовь не составляет труда утаить".
Он утаил. Не потому ли так легко воспринял ее вольность? Или привык к изменам? В одном из ранних писем будущий Вольтер, а тогда еще неведомый никому Франсуа-Мари Аруэ, у которого исследователи насчитали, между прочим, 137 псевдонимов, обмолвился: "Мне изменили все, даже возлюбленная", и то, к прискорбию, была измена отнюдь не первая. Не первая и не последняя...
Заметим, что он платил той же монетой. "Надо искать счастья у возможно большего числа дам", – настаивал служитель муз; речь в данном случае шла именно о музах, о всех девяти, каждой из которых Вольтер отдал должное. Но и к женщинам эту галантную формулу можно отнести с полным основанием. Этих, правда, было больше, нежели девять.
И все же Эмилия, "божественная Эмилия", оставалась единственной. Несомненно, ее имел в виду автор "Кандида", провозглашая устами одного из героев, что любовь – "это утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ".
Смерть маркизы – а последние роды свели-таки ее в могилу – настолько потрясла Вольтера, что он, выйдя на подламывающихся ногах из ее опочивальни, потерял сознание. Минет еще шестнадцать лет – как раз тот срок, что они прожили вместе, – и он опишет эту смерть в повести "Простодушный". "Возлюбленный сжимал ей руку, орошая ее слезами, и громко рыдал; он называл ее своей благодетельницей, своей надеждой и жизнью, половиной своего существа, своей любимой, своей женой". В отличие от героя, автор называл так свою возлюбленную не только у одра смерти, но и при жизни, свидетельство чему – его многочисленные письма, его стихи и его торжественные посвящения этой женщине литературных произведений. Благоговения и восторга преисполнены они.
Г-жа дю Шатле оценила это. Если верить той же повести "Простодушный", она приняла смерть как кару за свой проступок. К нему, человеку, которого этот проступок больно ранил, обращены ее последние слова: "Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки".
Оставьте свой отзыв
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу privet@cofe.ru








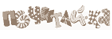


«Минет еще шестнадцать лет»
Что-то я не понял этой фразы…
исправьте,если опечатка:)